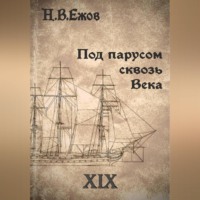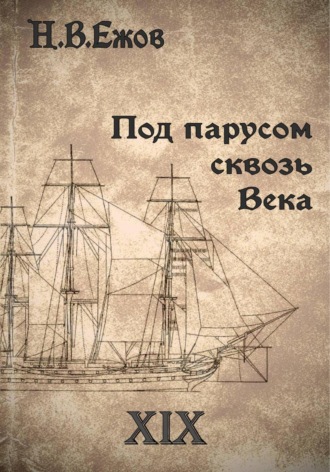
Полная версия
Под парусом сквозь века. Век XIX
Григорий Григорьевич Белли, русский морской офицер шотландского происхождения. На тот момент был уже в чине капитана первого ранга, кавалер орденов Святого Владимира 4й степени, святого Иоанна Иерусалимского и святой Анны 2й и 1й степени. Последнее, к слову, было слишком высокой наградой для чина Белли, что говорит о незаурядности этого шотландца. 21 февраля Григорий (Генрих) Белли в очередной раз за свою карьеру решил устроить шоу «Смотри, как я умею», и предъявил маркизу де Газильери, губернатору области Бока-ди-Катторо, ультиматум. Австрийцы должны были сдать за 15 минут восемь крепостей. Де Газильери не был дураком, да и как многие русские и австрийские офицеры был подавлен поражением при Аустерлице и результатами Пресбургского мира. Не отдавать такой лакомый кусок, как Которский залив французам – расклад более чем соблазнительный, но ради «сохранения чести» маркиз попросил дать хотя бы один выстрел из пушки – что бы не сдавать крепости без боя. Белли ответил, что если пушки заговорят, то сразу все. Маркиз, видимо, много что подумал про оборзевших шотландцев и наглых русских, но ничего не сказал. Крепости были сданы. Кроме наглости, можно заметить важный момент. Так как крепости были сданы без боя, то не было повода для войны между Австрией и Россией – а лишняя дипломатическая напряжённость никому не была нужна. После быстрой и бескровной победы у монастыря Савино собралась огромная толпа людей (по словам Броневского около десяти тысяч человек). Православный митрополит выступил с речью перед объединённым войском: «Самые горячие пожелания исполнились! Наши русские братья соединяются с нами в братской общности. Пусть никогда эта великая минута не исчезнет из вашей памяти! Раньше, чем я освящу эти знамена, клянитесь защищать их до последней капли крови!». Речь была длиннее (не буду приводить её полностью). Восторженные бокезцы и черногорцы присягнули на верность Александру I. Сенявин побывал в Кастельново и Которе, общаясь с местным населением и укрепляя связь с новой провинцией Российской империи. Имея на море республику Ионических островов, а на суше Которский залив, Сенявин фактически перерезал французам морские поставки через Адриатику и сильно обломал радостные планы Наполеона. Д.Н. Сенявин направил Белли с большей частью эскадры блокировать побережье Далмации, а сам отправился на Корфу за подкреплением. Вся радость побед была стёрта одним письмом от императора Александра.
«По переменившимся ныне обстоятельствам пребывание на Средиземном море состоящей под начальством вашим эскадры соделалось ненужным, и для того соизволяю, чтобы вы при первом удобном случае отправились к черноморским портам нашим со всеми военными и транспортными судами, отдаленными как от Балтийского так и Черноморского флота, и по прибытии к оным, явясь к главному там командиру адмиралу маркизу де-Траверсе, состояли под его начальством…»
Письмо это было отправлено ещё в декабре 1805 года, после Аустерлица, и добиралось до Корфу три месяца. Дмитрий Николаевич прочёл, опешил. Расстроился. Да и забил на распоряжение государя, решив доложить о своих успехах и дождаться повторного приказа.
Триестский ультиматум
При отсутствии быстрых каналов связи информация из Корфу в Санкт-Петербург добиралась долго, и пока вице-адмирал ждал гонца, что доберётся в обе стороны, военные действия продолжались. Белли, отправленный блокировать занятое французами побережье, не хотел просто так торчать в море. 30 марта его корабли, не открывая огонь, подошли к береговым укреплениям на острове Корчула на расстояние пистолетного выстрела (а те времена это около пятидесяти метров, и то с такой натяжкой, что не каждая сова выживет) – и открыл огонь из пушек. Французы спустили флаг ещё до высадки русского десанта. 5 апреля десант с захваченной у французов шебеки захватил остров Лисса (Вис), что позволило контролировать проход любых судов по Адриатическому морю. Ситуация выходила довольно странная. Австрия должна была отдать Далмацию Наполеону. Которский залив должен был стать важнейшей базой Франции в Адриатике. Но отдать то, чего у тебя нет нельзя – а Которский залив и Далмация внезапно оказались сначала в руках местного населения, а потом и вовсе присягнули на верность Российской Империи. Австрия, сильно потрёпанная после Аустерлица, опасалась вторжения взбешённого потерей выгодных земель Наполеона и принуждения к лягушковой диете; Александр I периодически играл роль «Я не я, эскадра не моя», а вице-адмирал Сенявин продолжал портить кровь французам. Господство русского флота в Адриатике не позволяло франции перекинуть войска морем. По суше переброска войск была долгой и сложной. Сенявину противостоял шеститысячный французский корпус и католическое население Рагузской республики – хорваты, венецианцы и итальянцы. Дипломатическая война и давление на Франца II со стороны Наполеона привело к тому, что в мае, в Триесте, оказались арестованы несколько бокезских торговых кораблей. С одной стороны, вроде ничего страшного. С другой – нейтральная страна (Австрия) проявила агрессию (арестовала) к русскому торговому флоту (бокезцы присягнули на верность Александру и уже считали себя частью Российской Империи). 21 мая к Триесту подошли четыре русских военных корабля – линкоры «Селафаил», «Святой Петр», «Москва» и фрегат «Венус». Комендант Триестского форта потребовал у Сенявина отвести корабли на пушечный выстрел. Дмитрий Николаевич ответил – ну, пальните из пушки. Я посмотрю, куда мне встать. Своеобразный прикол. Может, русский вице-адмирал и правда просил показать ему «границы дозволеного». Но скорее брал австрияка «на слабо» – выстрел из орудия в сторону русского военного корабля стал бы поводом для ответного залпа. Так же Сенявин потребовал отпустить все задержанные русские суда. Комендантом в Триесте тогда был австрийский фельдмаршал Цах, которого ещё Суворов хвалил, но при этом с иронией называл «унтеркунфтом». По сути, это можно перевести как «уютный уголок». В общем, Суворов называл Цаха «генералом диванных войск». Австриец не стал стрелять, и попытался объяснить – мол, тут толпа французов. Не можем мы ваши корабли отпустить. Страшно.
«Положение ваше затруднительно…– отвечал Сенявин,– а мое не оставляет мне ни малейшего повода колебаться в выборе. Поступок ваш, мне как генералу, а не политику, кажется, не соответствует дружеству и союзу, в которых вы меня уверяете. С долгом моим и с силою, какую вы здесь видите, не сообразно допустить вас унижать флаг, за что ответственность моя слишком велика, ибо сие касается чести и должного уважения к моему Отечеству».
Во время этих очень неприятных переговоров на рейд экстренно прибыл фрегат русской эскадры с известием, что французы заняли Рагузу и собираются напасть на Боко-ди-Каттаро. Сенявин решил идти к угрожаемому месту. Но так как под давлением французов комендант Триеста Цах задержал некоторые суда русской эскадры (желая этим напугать Сенявина и ускорить его уход из порта), то русский адмирал начал вести тонкую дипломатическую игру, пытаясь договориться об освобождении арестованных кораблей, не спровоцировав при этом войну с Австрией.
Переговоры затягивались. Во время очередного обмена письмами к эскадре Сенявина подошёл один из русских фрегатов с новостями – фразцузы заняли Рагузскую республику, и готовятся выйти в сторону Боко-ди-Катторо. Дмитрий Николаевич встал перед нелегким выбором: бросить суда, находящиеся под австрийским арестом, и выдвигаться в сторону Которского залива, или оставить недавно присягнувший народ с малой поддержкой оставшихся в Кастельново сил. Вице-адмирал написал письмо, в котором в очередной раз жаловался на обстоятельства и подчёркивал искреннее дружелюбие мощной эскадры. Отправляя письмо, Сенявин добавил на словах австрийским офицерам:
«Теперь нет времени продолжать бесполезные переговоры. Вам должно избрать одно из двух: или действовать по внушению французских генералов, или держаться точного смысла прав нейтралитета. Мой выбор сделан, и вот последнее моё требование: если час спустя не возвращены будут суда, вами задержанные, то силою возьму не только свои, но и все ваши сколько их есть в гавани и в море. Уверяю вас, что 20 000 французов не защитят Триеста. Надеюсь, однако ж, что через час мы будем друзьями, я только и прошу, чтобы не было ни малейшего вида, к оскорблению чести российского флага клонящегося, и, собственно, для вашей же пользы, чтобы не осталось и следов неудовольствия. Скажите генералу Цаху, что теперь от него зависит сохранить дружбу августейших наших монархов, которая столько раз была вам полезна, и впредь пригодиться может. Уверьте его, что через час я начну военные действия»
После этих слов была отдана команда готовиться к бою. Австрийские посыльные в спешке отправились к фельдмаршалу Цаху, наблюдая как из крюйс-камеры к орудиям несут картузы с порохом. Через час (ну, или около того) русские торговые корабли были освобождены, и под прикрытием эскадры Сенявина отправились в Которский залив.
Война порохом и словом
21 мая Петр Негош повел отряд из черногорских и русских солдат и разбил авангард французов и рагузцев, заставив тех отступить из Старой Рагузы (ныне Цавтат). Французский генерал Лористон после того боя жаловался Сенявину на жестокость бокезцев, которые защищали свою страну. Как отмечал Е.В.Тарле, позже этот же генерал жаловался в 1812 году Кутузову на охреневших русских, которые с «особой жестокостью сражались» и защищали свою землю от всяких лягушатников. 27 мая Сенявин вернулся в Кастельново. Проведя пару советов и оценив ситуацию, вице-адмирал морем перебросил войска к Старой Рагузе, занятой войском Петра Негоша и князя Вяземского. 4 июня Сенявин получил очередное письмо от императора Александра, и в очередной раз не выполняет приказ – более того, не сообщает о нём своим офицерам и в первую очередь черногорцам. 5 июня в 4 утра пять крупных боевых кораблей начали верповку (завоз якоря на шлюпке и подтягивание корабля к якорю) в сторону укреплений Новой Рагузы. Шебека «Азард» и пять канонерок шли на вёслах. Контр-адмирал Сорокин открыл пушечный огонь по укреплениям на острове Санто Марко, а отряд черногорцев при поддержке трёх рот егерей князя Вяземского начал штурмовать Багратские высоты. К семи часам вечера 5 июня французы отступают в Новую Рагузу, потеряв около четырёх сотен человек и 13 орудий. С 7 июня началась блокада Новой Рагузы черногорцами и отрядом вяземского. Она продолжалась до 24 июня, пока к Новой Рагузе не подошло французское подкрепление. Пока Сенявин воевал на северо-западе Балкан, за столами переговоров шла своя война. Наполеон уже в ультимативной форме требовал от австрийского императора Франца II обещанную Далмацию и Которский залив. Франц разводил руками и истерично писал Александру – мол, если корсиканцу не дать землю, то он меня откорсиканит и отаустерлицит ещё раз. А ты, Шурик, не собираешься меня прикрывать. Письмо, на которое столь показательно 4 июня положил (кипу бумаг) Дмитрий Николаевич Сенявин, было приказом отдать Которский залив австрийцам для дальнейшей передачи французам. У австрияков знатно подгорало со страха, у французов от нетерпения, а у Сенявина – от приказов Александра. У Александра что подгорало неизвестно, но вскоре начались переговоры о мире между Францией и Российской империей. Поддерживали болтозабивательское настроение вице-адмирала и черногорцы, готовые сжечь свои города и уйти вместе с русским флотом с родной земли, лишь бы не быть очередными поддаными Наполеона. В начале июля русский посол Пётр Яковлевич Убри подписал с Францией мирный договор. Сенявин крутился как уж на сковородке. То он отказывал выполнять переданный приказ из-за не соблюдённого австрийцами церемониала, то прямо заявлял, что не верит французскому посланнику. На приказы русских чиновников Сенявин отвечал, что запросит подтверждения у императора Александра. Когда Сенявину показали мирный договор Убри-Кларка, он невозмутимо ответил: «Когда оба императора ратифицируют договор, тогда и уйду». Всё это время Сенявин слал в Петербург письма и доклады о том, как хотят черногорцы и бокезцы жить под русским флагом, и как не хотят они питаться мерзким французским луковым супом. Итог у войны дипломатов был один. Сенявин не ушёл из Котора. Мирный договор не был ратифицирован Александром. Убри, составивший и подписавший этот договор, был отправлен в отставку. 31 июля на палубу «Селафаила» поднялся гонец с очередным посланием от императора. Все прежние послания и приказы отменить, французов бить дальше. Французский генерал Мармон, знавший об отказе в ратификации и пытавшийся хитростью и дипломатией сковырнуть русских с удобных позиций, 14 сентября (ст.ст.) наблюдал пренеприятнейшую картину. С моря по его лагерю открыл огонь русский флот, а на суше к нему приближалась толпа злых черногорцев. Его же войска скоропостижно и крайне неорганизованно ретировались с поля боя. Попытка навести порядок в строю и дать отпор русско-черногорскому войску на следующий день привела к тому же результату. Флот стреляет, французы бегут, русские и черногорцы наступают. При бегстве с Пунто-д’Остро генерал Мармон теряет все свои орудия, выставленные на этом форпосте. По его словам – топит их в море, а на самом же деле вся крупнокалиберная артиллерия была захвачена отрядом Вяземского. Французы засели в Старой Рагузе. В начале октября Мармон попытался повести войска в контр-наступление, но был нещадно бит, и снова укрылся в городе. Сенявин понимал, что взять Старую Рагузу теми силами, что у него есть, он не сможет. Мармон же понимал, что не сможет выбить Сенявина из Далмации. На суше началась позиционная война. На Адриатическом море же господствовал русский флот. Французская и итальянская торговля была парализована. Сенявин просил из Петербурга прислать подкрепление и усилить корпус, стоящий в Черногории – на случай, если Турция закроет Босфор и Дарданеллы. Неизвестно, хотел император Александр отправить подкрепление или нет – но дойти из России до Сенявина через Чёрное море оно бы не смогло. 18 декабря 1806 года Турция объявила войну Российской Империи.
Экспедиция Сенявина (1805-1807). Часть 2. Блокада Дарданелл
Турецкий флюгер и английский облом.
Русско-турецкая война. Очередная.
В 1798 году в средиземноморье можно воочию увидеть немыслимое: русские и турецкие корабли стояли в одном строю. Вечные враги, всего несколько лет назад закончившие очередную войну, объединились против общего врага. Объединённый русско-турецкий флот сражался за освобождение Ионических островов, и султан Селим III наставлял своего адмирала Кадыр-бея – «Относись к Ушак-паше как к учителю!». Фактически, союзный договор закончился с выходом России из второй антифранцузской коалиции. 11 сентября 1805 года (ст.ст.) был подписан новый союзный договор. По сути, он продлевал старый договор (1798 года) на девять лет, и одним из главных его пунктов был свободный проход русского флота через Босфор и Дарданеллы. Этот договор продержался куда меньше. После Аустерлица и краха Третьей Коалиции Турция засомневалась в своих союзниках. Усугубили сомнения факт поддержки Российской Империей сербов в их стремлении к автономии. После всё того же Аустерлица в Константинополь был направлен Орас Франсуа Бастьен Себастьяни де Ла Порта. Этот дивизионный генерал, чаще называемый просто Орас Себастьяни, уже отличился в дипломатической службе после заключения Амьенского мира, и теперь был послан к Селиму III с конкретной задачей – предотвратить сближение Турции с Англией и Россией. Орас очень не любил русских после того, как огрёб от Суворова и побывал у него в плену. Султан Селим тоже не любил русских – череда поражений XVIII века и явное стремление Российской Империи шастать туда-сюда из Чёрного моря в Средиземноморье эту нелюбовь только усиливали. Вкупе с недавным поражением третьей коалиции и хорошим советником в виде Ораса Себастьяни эта нелюбовь повернула политический флюгер высокой Порты в противоположную сторону. Укрепило положение помощь Себастьяни (да и вообще французами) в реформах, проводимых султаном. В общем, в 1805 году Селим III признаёт Наполеона Бонапарта Императором французов, что тут же портит отношения Турции с Россией. В августе 1806 года султан Селим отстраняет от власти правителей Валахии и Молдавии, что являлось нарушением мирного договора с Россией, и закрыла проход русским судам из Черного Моря в Средиземноморье. В конце концов, взаимное накаливание ситуации и бряцание оружием привело к тому, что в декабре 1806 года Турция объявила войну России. Русские войска в то время уже занимали Валашские и Молдавские княжества и поддержали сербское восстание.
О том, как англичане от турок отхватили
В январе 1807 года Англия объявила войну Турции. Адмирал Сенявин прибыл на базу русского флота на острове Корфу, и получив подкрепление, 10 февраля 1807 двинулся к Дарданеллам. На Адриатике осталась малая часть эскадры под командованием Баратынского. Адмирал Сенявин мог требовать от союзников-англичан совместных боевых действий, и планировал совместно с британской эскадрой Дакворта атаковать Константинополь, при этом ожидая подхода эскадры Пустошкина с Чёрного моря. 23 февраля эскадра Сенявина подошла к острову Тенедос, где встретила целую эскадру. Был отдан приказ готовиться к бою, но на сильно потрёпанных кораблях подняли английский флаг. Турецкий комендант не стрелял ни по англичанам, ни по проходящему русскому флоту. Владимир Броневский назвал его «великодушный турок», хотя скорее коменданта можно было назвать турком разумным – две эскадры превратили бы крепость в руины. При встрече Сенявин узнал от Дакворта историю неудавшейся Дарданелльской операции. По неизвестной причине вице-адмирал Дакворт не стал дожидаться флота Сенявина и решил своими силами пугнуть султана Селима III. Уже 7 февраля (ст.ст.) эскадра Дакворта с подкреплениями из эскадры Луиса и мальтийской эскадры Смита вошли в Дарданеллы. Примерно на середине пути в Мраморное море англичане одержали прекрасную победу в битве при Абидосе. Их восемь линейных кораблей, два фрегата и три малых корабля сначала отметелили турецкий линкор и двенадцать малых судов, после чего взяли турецкие береговые укрепления и заклепали турецкие пушки. 9 февраля эскадра Дакворта встала на якорь в Мраморном море, и вместо того, чтобы взять «голый» Константинополь и принудить Турцию к выходу из войны, боевой адмирал решил поиграть в дипломата. Пока десять дней велись переговоры, турецкий флот готовился к бою, а на обоих берегах Дарданелл возводились береговые укрепления. Константинополь тоже готовился к обороне.
«Мы развлекали англичан переговорами в столько времени, сколько было необходимо, чтобы подготовить Константинополь к обороне. Как только работы были окончены, Порта уведомила адмирала Дакворта, что она не может согласиться ни на одно из его требований и что она не боится увидеть его суда перед Константинополем. Пока мы укрепляли столицу, так же отправили подкрепление на Галлипольский полуостров, и наш инженер, г. Гутильо получил задание, воздвигнуть батареи, способные сделать очень опасным возвращение Дакворта» «Если бы английский адмирал на другой или на третий день после своего появления попытался войти в порт, мы не могли бы оказать ему никакого сопротивления, и его успех был бы полным. Мы бы получили квартиры в Семибашенном замке (тюрьма в Константинополе). Эта перспектива нас не испугала, и наша твердость увенчалась успехом»– из письма Себастьяни генералу Мармону.
До Дакворта допёрло, что его буквально поматросили и бросили, и его корабли подошли вплотную к Константинополю. Походив туда-сюда, показав, какие у него красивые линкоры и посмотрев на готовый к обороне город, расстроенный вице-адмирал развернул флот и вошёл обратно в Дарданеллы. Там недодипломат решил её раз проявить гонор, и потребовал от захваченных ранее укреплений формального «салюта почтения». Вместо него английской эскадре устроили двойное проникновение, обстреливая корабли с обоих берегов. Выслушав историю неудачной попытки англичан самостоятельно решить «турецкий вопрос» – либо повернуть флюгер турецкой политики, либо захватить Константинополь – Дмитрий Николаевич Сенявин предложил нанести новый удар. Уже совместный. По его мнению, две эскадры вполне могли пройти через укреплённые Дарданеллы, а с поддержкой эскадры Пустошкина из Чёрного моря – взять турок за самые стамбулы. Но «подкрепленье не пришло, и подмогу не прислали». Дакворт, совсем не трус и не слабак, отказался от совместной операции. Мало того, он даже отказался поддержать Сенявина кораблями, и увёл свою эскадру в Египет, сославшись на приказ. Отказать Сенявину Дакворт мог – в звании они были равны. Что стало причиной отказа – нежелание англичан терять «турецкий волнолом» против России, или же желание прихватить себе ещё что-то, пока прочие члены коалиции держат французов – неизвестно. 2 марта 1807 года Дакворт увёл английскую эскадру, бросив союзников у острова Тенедос.
Блокада Дарданелл
Захват Тенедоса (8-10 марта 1807)
Если союзники и могли взять и уйти куда-то по своим делам, то враги так поступают редко. Ближайшие к Сенявину турки так и вовсе не могли никуда уплыть на своём острове, и 3 марта контр-адмирал Грейг предложил гарнизону Тенедоса сдать остров. Безрезультатно. 8 марта почти вся эскадра Сенявина подошла к острову, и открыла огонь по крепости. Во время обстрела на берег был отправлен десант, которым командовал всё тот же А.С. Грейг. Турки укрылись в большем из укреплений, и приготовились к обороне. Под руководством А.С. Грейга и Д.Н. Сенявина морские пехотинцы возвели две батареи для обстрела укреплений с суши. Перед решающим штурмом Сенявин ещё раз предложил туркам почётную капитуляцию – и комендант сдал крепость и остров. Более 1600 человек (1200 бойцов гарнизона и 400 укрывшихся в крепости гражданских_ русский флот перевёз на берег Анатолии. Остров Тенедос был взят. Эскадра Сенявина получила прекрасную морскую базу в четырнадцати милях от входа в Дарданеллы, весь порох и провиант с острова, а также источник пресной воды. Блокада Дарданелл началась.
Оборона Тенедоса (7-11 мая 1807)
Морская блокада – штука очень неприятная. Мало того, что бьёт по репутации, так ещё и мешает торговле. А если у тебя большой город, который зависит от поставок продовольствия по морю – всё ещё печальнее. Особенно печально то, что там, за блокирующим флотом, не верные вассалы, а греки. Такие же православные, как и блокирующий пролив адмирал, как восставшие сербы. И теперь блокирующий Дарданеллы Сенявин и его матросы вкусно и сыто едят, греки подумывают послать султана, союзники-французы смотрят на тебя как на то самое, что дурно пахнет. И вообще всё как-то грустно – на тебя даже твои янычары смотрят как французы. В мае 1807 года Сеид-Али, капудан-паша османского флота, был направлен на прорыв блокады. Поначалу туркам, как казалось, везло. 8 мая их флот подошёл к острову Тенедос, и в четырёх километрах севернее Тенедской крепости высадили десант. Радостную встречу османам устроил майор Гедеонов с двумя ротами солдат. После короткой перестрелки турки были в буквальном смысле отброшены назад, в море. Перегруппировавшись и получив подкрепление, десантные группы дождались подхода гребной флотилии. По двум ротам Гедеонова был открыт шквальный картечный огонь – и это позволило туркам снова выйти на берег. Две роты тут же бросились в рукопашный бой, и отбили атаку. За вечер было сброшено в море несколько волн турецкого десанта. «Прикрывающий огонь» картечью почти не трогал русских солдат, прятавшихся до начала рукопашной – но изрядно косил отступавших турок. По словам Броневского, турки потеряли от 200 до 300 убитыми, несколько лодок были потоплены огнём с берега. Потери в отряде Гедеонова не превысили пяти человек.
Дарданелльское сражение (10-11 мая)
Неудачная высадка изрядно попортила настроение туркам, и несмотря на преимущество в количестве кораблей и в ветре, Сеид-Али не атаковал. Видимо, «ждал знак». Знак был явлен. 10 мая, после полудня, благоприятный для турок ветер NE сменился на полностью противоположный SW. Дмитрий Николаевич в других знаках не нуждался, выстроил свою эскадру в две боевые линии и двинулся в атаку. В эскадре Сенявина было десять линейных кораблей и фрегат «Венусъ», у Сеид-Али восемь линейных кораблей, шесть фрегатов и более пятидесяти пяти вспомогательных мелких корыт. Сенявин ожидал, что Сеид-Али примет бой на якоре, но турки кое-как развернулись, и дали дёру в пролив, под прикрытие береговых батарей. Около шести вечера начался бой в устье залива. Корабли перемешались. Линейный корабль «Селафаил» пристроился бортом к корме турецкого флагмана, и разряжал в него залп за залпом, не давая турку повернуться для ответного огня. Второму флагману (флагману вице-адмирала) линейный корабль «Уриил» сломал утлегарь, когда отрезал корабль противника от общего строя. «Твёрдый», флагман русской эскадры, шёл меж турецких кораблей, обстреливая их с обоих бортов. Сеид-Али прекрасно понимал преимущество береговых батарей, и пытался заманить корабли Сенявина под их огонь. Около восьми вечера стемнело, и корабли начали медленно расходиться. Ветер стих, и к полуночи течение отвело русскую эскадру от Дарданелл. Сенявин приказал бросить якорь. Наутро три турецких линейных корабля, которые не смогли проскочить в пролив да темноты, попытались снова уйти от русской эскадры. Два из них буксировались гребными судами вдоль европейского берега, корабль вице-адмирала шёл под парусами вдоль азиатского. Спасаясь от возобновивших погоню русских кораблей, турки выбросили линкоры на мель в зоне досягаемости береговых орудий. Расстреляв сидящие на мели корабли, эскадра Сенявина вернулась к Тенедосу уже на следующий день, 12 мая (ст.ст.). В бою русская эскадра потеряла 26 человек убитыми, в том числе и командир линейного корабля «Сильный» И.А.Игнатьев. Турки потеряли три линейных корабля. Количество погибших неизвестно, В. Броневский оценивал потери противника (вряд ли верно) примерно в две тысячи. Во время боя произошли два инцидента. Флагман русской эскадры подошёл опасно близко к береговым укреплениям. Во время боя, уже в темноте, Сенявин приказал потушить фонари на «Твёрдом», чтобы затруднить прицеливание противнику, и распорядился отбуксировать линейный корабль шлюпками. Отношение русских моряков к вице-адмиралу можно понять по тому, что и они прекратили огонь – сначала не могли понять, что случилось с адмиральским кораблём, а потом боялись ненароком попасть по флагману. На следующий день на линейном корабле «Сильный» приспустили флаг: в бою погиб капитан корабля. На «Твёрдом» после боя и обстрела даже ружейным огнём из Европейской крепости (той, что на европейском берегу пролива), отсутствовал адмиральский флаг. Уныние и страх охватили эскадру. В нарушение протокола и приказа, фрегат «Венусъ» подошел к корме флагманского линкора, и без рапорта и доклада потребовали ответа – где адмирал, и что случилось. Не смотря на ответ, что с Сенявиным все в порядке, матросы не успокоились, пока на галерею не вышел сонный Дмитрий Николаевич, а на стеньге снова взвился адмиральский флаг. Вице-адмирал хотел обратиться к матросам с речью, но радостный гомон и крики матросов «Венуса», а постом и с остальных кораблей эскадры, не позволили Сенявину сказать ни слова. Вице-адмирал поклонился, и с улыбкой ушёл в каюту.