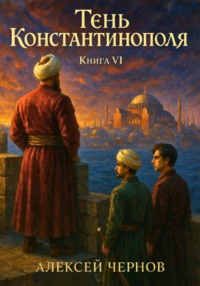Полная версия
Король Одессы

Алексей Чернов
Король Одессы
Глава 1. Возвращение Мишки Япончика
Весна 1917 год.
Город гудел, словно огромный портовый котёл, в котором закипала неведомая, грозная эпоха. Запах солёного моря, живого и терпкого, смешивался с едкой гарью угля, сладковатым ароматом жареной барабульки и чем-то ещё – металлическим, почти осязаемым, как предчувствие надвигающейся бури.
Ветер с рейда нёс в переулки сырость, а вместе с ней – тревогу, которая оседала в груди у каждого, кто вдыхал этот воздух.
На улицах шептались о мире и смеялись слишком громко, будто старались заглушить внутренний страх, убедить себя, что жизнь всё ещё течёт по старым рельсам.
Но даже в привычном гомоне Привоза, в звоне трамваев и криках разносчиков, чувствовалась трещина – тонкая, но уже необратимая. Город дышал натужно, словно предчувствуя, что завтрашний день может не походить на вчерашний.
Пульс Одессы бился неровно. Где-то в подворотнях спорили о новой власти, где-то плакали над письмами с фронта, а кто-то, стиснув зубы, точил нож, не зная, для чего он пригодится – для защиты или для мести.
Воздух был пропитан ожиданием: то ли свободы, то ли хаоса. Над всем этим витал запах кофе из крохотных лавочек, смешанный с вонью прогорклого масла и мокрой шерсти – запах жизни, которая, несмотря ни на что, цеплялась за каждый новый день.
***
У ворот старой мастерской, где облупившаяся краска на вывеске давно выцвела, стоял молодой человек. Чёрное пальто плотно обтягивало его узкие плечи, тёмный галстук был завязан чуть небрежно, а волосы, блестящие от утренней влаги, зачёсаны назад.
Глаза – тёмные, внимательные, словно всегда взвешивающие невидимые риски, – выдавали в нём того, кто привык видеть больше, чем говорят. Это был Мойше Япончик, а для своих, на Молдаванке, просто Мишка – имя, которое произносили с теплотой, но и с опаской.
Говорили, прозвище прицепилось ещё в детстве – за узкий разрез глаз и хитрую улыбку, что мелькала на губах, когда он выкручивался из очередной передряги.
Но теперь никто уже не вспоминал, откуда взялось это «Япончик». Имя стало символом, паролем, знаком – его произносили по-одесски, нараспев, с какой-то особенной нежностью, смешанной с уважением.
Он закурил, прикрыв огонёк ладонью от настырного ветра с моря. Тот гонял по мостовой пыль и обрывки газет, принося запахи ночи: керосин, мокрая верёвка, тающая соль.
Дым от папиросы смешивался с утренней сыростью, и Мишка невольно вдохнул глубже, словно пытался уловить в этом воздухе намёк на грядущее.
Из глубины двора доносились глухие удары молотка – кузнец правил подкову, не обращая внимания на ранний час. Где-то рядом сварливо переругивались дворовые, а из открытого окна выплывала хрипловатая песня, которую тянул пьяный голос.
Жизнь, как ни странно, продолжалась – со своими заботами, ссорами и смехом. Но Мишка кожей чувствовал: старый мир трещит по швам, и вот-вот рухнет, обнажив что-то новое, пугающее, но неизбежное.
С тех пор как с фронта потянулись солдаты – хмурые, измождённые, с глазами, в которых застыла пустота, – Одесса перестала быть прежней. Они приносили с собой не только запах пороха и грязи, но и гнев, который копился где-то глубоко внутри.
Город разучился бояться – или, может, просто устал от страха, что было куда опаснее. На каждом углу теперь можно было услышать, как кто-то проклинает царя, кто-то – новых правителей, а кто-то просто шептал, что «всё пропало».
Мишка шёл по улице медленно, вглядываясь в лица прохожих. Из-под арок вываливались люди: матросы с обветренными щеками, торговки с корзинами, нищие, тянущие за рукав, девчонки в ситцевых платьях, хихикающие над чем-то своим.
На каждом шагу – слухи, обрывки новостей, домыслы. Власть сменилась, потом ещё раз, и снова – словно в калейдоскопе, где каждый поворот рождает новый узор, но всё такой же бессмысленный. Сотни знамен, лозунгов, прокламаций, а в итоге – лишь пустота и неуверенность.
Всё поделили, а счастья не прибавилось, – думал он, поправляя лацкан пальто и чувствуя, как холодный металл пуговицы касается пальцев. Эта мысль не была новой, но сегодня она резала особенно остро, как осколок стекла, застрявший в памяти.
Он никогда не был романтиком, не строил воздушных замков. Улица воспитала его жёстко: среди торговцев, шулеров и воров он научился держать удар, считать чужие монеты и смотреть прямо в глаза тем, кто привык брать силой.
Но в это утро, стоя у ворот старого двора, он ощутил странное беспокойство – будто невидимый голос зовёт его в самую гущу этого грохочущего хаоса. Не просто выжить, не просто урвать свой кусок, а встать во главе, стать тем, кто поведёт за собой.
Из подворотни выбрался Сенька «Псаломщик» – долговязый, с хитрыми глазами лисы, которые всегда будто высматривали выгоду. Когда-то он пел в синагоге, потом вёл дела на складах, а теперь стал правой рукой Япончика, верным, как тень.
– Всё готово, Мишка. Люди собрались, ждут тебя на складе у порта, – бросил он шёпотом, оглядываясь по сторонам, словно боялся, что ветер подхватит его слова.
– Сколько их?
– С десяток новых, да наши, старые, все в сборе. – Сенька понизил голос до едва слышимого. – Слыхал? Анархисты опять мутят воду, собираются брать оружие. И с ними, говорят, чекисты.
Мишка прищурился, и в его взгляде мелькнула искра – не то азарта, не то тревоги.
– Значит, будет шумно. Пора и нам напомнить, кто здесь хозяин.
Он двинулся вперёд, не оборачиваясь, уверенно, словно знал, что за ним пойдут без лишних слов.
Город под ногами жил своей жизнью: где-то хлопали ставни, где-то лаяла собака, а над крышами тяжело ревел пароход, отходящий в Констанцу.
На миг Мишке почудилось детство – ловкий мальчишка, бегущий по рынку с ворованным яблоком в руках, слыша за спиной крики торговцев. Запах арбузов, пота, пыли – всё это вдруг всплыло в памяти, как старая открытка, но тут же растаяло. Нет, теперь он другой. И ставки – куда выше.
***
Внутри пахло солью, влажным табаком и чем-то кислым, будто прогорклым вином. На ящиках, составленных вдоль стен, сидели люди – кто в солдатских шинелях с вытянутыми локтями, кто в поношенных сюртуках, сшитых ещё до войны.
В руках – револьверы, ножи, бутылки с самогоном, из которых то и дело делали жадные глотки. Воздух был тяжёлым от дыма и напряжения, а взгляды – настороженными, будто каждый ждал подвоха.
Когда вошёл Япончик, шум стих, как по команде. Он не повышал голоса, не делал резких движений – просто посмотрел на всех своими тёмными, цепкими глазами. И этого хватило, чтобы в помещении повисла тишина.
– Ребята… – начал он спокойно, почти буднично, но в каждом слове сквозила сила. – Все мы знаем, что теперь вокруг – ни власти, ни закона. Каждый сам себе хозяин. Но это не значит, что можно брать всё, что плохо лежит.
– И что, мы теперь анархисты, как те, с плакатами? – хмыкнул кто-то из заднего ряда, сплюнув на пол.
– Нет, – отрезал Мишка, и в его голосе не было ни тени сомнения. – Мы – одесситы. А у нас свой закон. Никто не тронет бедного, не обидит слабого. Но если кто-то сунется в наш двор, в наш город с дурными намерениями – тогда и поговорим по-другому.
Он говорил просто, без лишних слов, но в его тоне было то, чего не хватало другим – уверенность, которая не давала места возражениям. Люди тянулись к нему не из страха, а из веры: этот человек не бросит, не предаст, не уйдёт в тень, когда станет жарко.
Сенька тихо подошёл ближе, склонившись к уху Мишки.
– Там, у Карантинной, опять грабёж. Слыхал, бывшие солдаты, а может, просто шайка, – прошептал он, нервно теребя рукав.
Мишка надвинул шляпу чуть ниже на лоб, словно закрываясь от лишних глаз.
– Пойдём. Разберёмся.
Когда они вышли на улицу, вечер уже опускался на город, как тяжёлое серое покрывало. Фонари горели редкими жёлтыми пятнами, лошади фыркали у телег, а в воздухе витал запах моря, смешанный с сыростью и дымом от печей. Шли молча, только каблуки стучали по булыжнику, отмеряя каждый шаг, как удары сердца.
Вдалеке, у доков, мелькали огни – тусклые, дрожащие, будто свечи на ветру. Там, где тени становились гуще, раздался крик – резкий, сдавленный, а следом – глухой удар, от которого внутри всё сжалось.
Мишка ускорил шаг, не сказав ни слова. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах загорелся холодный огонёк – тот самый, что выдавал в нём человека, готового к любому повороту судьбы.
***
Двое громил держали мальчишку лет шестнадцати, били ногами, не жалея сил. На земле валялась перевернутая корзина с яблоками, плоды раскатились по мокрому булыжнику, и сок смешивался с грязью. Парень уже не сопротивлялся, только закрывал голову руками, а из разбитой губы стекала тонкая струйка, чернея в тусклом свете фонаря.
– За что? – спросил Мишка, не повышая голоса, но в его тоне сквозила угроза, от которой воздух стал тяжелее.
– Да вор он! – рявкнул один из нападавших, сплюнув на землю. – У офицера кошелёк тянул, щенок!
– А ты кто такой, чтоб судить? – Япончик шагнул ближе, и в его движении не было ни спешки, ни страха.
Громила поднял руку, намереваясь ударить, но Мишка опередил – короткий, почти незаметный удар в челюсть, и тот рухнул на колени, хрипя от боли. Второй замер, растерянно моргая, а потом попятился, словно понял, что перед ним не просто уличный парень.
– Убирайся отсюда, – сказал Мишка тихо, но каждое слово падало, как камень. – И забудь дорогу на Молдаванку. Навсегда.
Парень поднял глаза – испуганные, но полные благодарности. Его руки дрожали, когда он пытался собрать остатки яблок, но взгляд был прикован к своему спасителю.
– Спасибо, Мишка… – выдохнул он, едва шевеля разбитыми губами.
– Беги домой, – только и сказал тот, слегка кивнув. – И живи по уму.
Они вернулись уже под утро, когда на горизонте проступила бледная полоска света. Порт просыпался: гудели пароходы, перекликались грузчики, а чайки с резкими криками кружили над водой, выхватывая из воздуха клочки хлеба.
Псаломщик достал из-под пиджака мутную бутылку, ухмыльнулся.
– Ну что, выходит, теперь мы – власть?
Мишка лишь усмехнулся, глядя куда-то вдаль, где море сливалось с небом.
– Власть – не те, у кого печать в кармане. А те, кого слушают, Сенька. Запомни это.
Он посмотрел в сторону рейда, и на миг ему показалось, что впереди ждёт не гибель, не бесконечные разборки, а настоящая судьба – та, которую он сам себе выберет.
Погони, сделки, опасности и слава – всё это ещё впереди. Но пока был лишь утренний воздух Одессы, пахнущий солью, свободой и чем-то неуловимо родным, что заставляло сердце биться чаще.
Одесса не спала. Она дышала, жила, боролась – и ждала, чем обернётся новый день.
***
Мишка сидел у окна своей маленькой комнаты на Ришельевской. На столе, покрытом старой газетой, – гранёный стакан с остывшим чаем и тяжёлый, холодный револьвер. Он не любил оружие, но давно усвоил: в мире, где слова теряют цену, металл становится единственным аргументом.
Сквозь приоткрытое окно доносились обрывки уличных споров. Кто-то яростно доказывал правоту революции, размахивая руками, кто-то так же отчаянно торговался за цену на картошку.
Голоса сливались в единый, безумный хор. Мир сошёл с ума, – подумал он, глядя на прохожих. Каждый теперь нёс свою правду, как знамя, каждый кричал о справедливости. А настоящая правда, тихая и жестокая, лежала у него на столе.
Дверь тихо скрипнула, вырвав его из мыслей. – Ты не спишь? – спросила Сара, бесшумно входя в комнату.
Она принесла свежий хлеб, завёрнутый в чистую тряпицу, и небольшой бумажный свёрток. Её тёмные волосы были аккуратно заколоты на затылке, а в больших, усталых глазах светилась мягкость, которую не смогли погасить ни тревоги, ни хаос вокруг.
Когда-то она работала в аптеке, смешивая порошки и микстуры, потом, увлёкшись идеями свободы, ушла к анархистам. Теперь же она была рядом с Мишкой – помогала то сведением с нужными людьми, то простым, тихим словом.
– Не сплю, – ответил он, не отрывая взгляда от улицы. – В Одессе нынче опасно спать. Можно проспать собственную жизнь.
Она подошла к столу и поставила хлеб, её губ коснулась грустная улыбка. – Опасно и не спать. Силы не вечны, Миша.
Он кивнул, принимая её заботу. – Слышала? Сегодня ночью у вокзала была перестрелка. Говорят, матросы сцепились с чекистами. Пять человек убито.
– И ещё двадцать арестовали, – добавила Сара, и её голос стал ниже. – Среди них – Лёва с Молдаванки. Наш Лёва.
Мишка медленно повернул голову. В его взгляде промелькнуло что-то острое, личное. – Тот самый Лёва?
– Твой, – тихо подтвердила она. – И если его не вытащить до утра, его уже не станет. Ты же знаешь, как они работают.
Он молча встал. Комната сразу показалась теснее. – Скажи Псаломщику, чтоб собирал людей. Быстро.
Сара подошла ближе и мягко положила руку ему на плечо. Ткань пальто была грубой, но под ней она чувствовала напряжённые, как струны, мышцы. – Мишка, ты не можешь воевать со всеми. Их слишком много.
– Я и не воюю, – ответил он, и в его голосе прозвучал холодный металл. – Я просто не люблю, когда моих людей хватают за шиворот и тащат в подвал.
Она тяжело вздохнула, но спорить не стала. В её взгляде смешались тревога за него и восхищение, которое она сама боялась себе признать.
***
На улице уже кипела жизнь. Когда Япончик вышел из двора, город гудел, как растревоженный улей. Анархисты с чёрными флагами собирали митинг у памятника Дюку, солдаты сбивались в кучки на бульваре, а слухи летели от дома к дому быстрее ветра.
Сенька «Псаломщик» ждал у запряжённой телеги, нервно пряча револьвер под полой старого пальто. Его лисьи глаза бегали по сторонам.
– Всё готово, – коротко бросил он. – У вокзала выставили усиленный патруль, но сторож в отделении – наш человек. Пропустит с чёрного хода.
– Значит, пойдём с наступлением темноты, – решил Мишка. Он говорил спокойно, но внутри него росло новое, пьянящее чувство – ощущение силы. Он чувствовал, как город дышит под его ногами, как отзывается на каждый его шаг. Одесса осталась без хозяина. И если судьба решила оставить трон пустым – кто-то должен на него сесть.
***
Поздний вечер. Улица Балковская. Дождь моросил с самого заката, превращая улицы в тёмные, блестящие зеркала. Балковская тянулась в темноту, как мутная река. У вокзала пахло мокрым углём, паровозным дымом и человеческим потом.
Трое людей в длинных тёмных пальто бесшумно возникли у дверей полицейского участка. Фонарь над входом тускло освещал их силуэты.
– Готов? – шёпотом спросил Сенька.
– Родился готовым, – ровно ответил Мишка.
Они вошли внутрь быстро и беззвучно. Дежурный – тот самый, их человек, – сидел за столом, делая вид, что дремлет. Он лишь молча кивнул в сторону коридора и снова опустил голову.
За ржавой решёткой в камере сидели несколько арестованных. Один из них, услышав шаги, поднял голову. Избитое, но не сломленное лицо – Лёва.
– Мишка?.. – прошептал он с недоверием.
– Тише, брат. Мы за тобой. Сейчас вытащим.
Через несколько минут всё было кончено. Двое сонных стражей лежали связанными в подсобке, а Лёва, пошатываясь, уже стоял на свободе.
Когда они вышли на улицу, где-то вдали уже послышались тревожные крики, редкие выстрелы и топот бегущих ног. Но Япончик шёл не торопясь, с тем же спокойствием, с каким вошёл.
Под ногами хлюпала грязь, по стенам скользили тусклые отблески фонарей. Он чувствовал странное умиротворение – будто совершил не дерзкий налёт, а восстановил справедливость.
***
На следующее утро о побеге говорил весь город. Газеты кричали о «зухвалой бандитской шайке», но на Молдаванке и в порту люди, передавая новость из уст в уста, улыбались: – Наш Мишка! Своих не бросает!
Слух о нём рос, как снежный ком. И с каждым днём имя «Япончик» звучало всё громче, обретая вес и силу. К нему начали приходить – робко, с оглядкой. Торговцы с Привоза, чьи лавки обчистили залётные банды.
Матросы, которым не заплатили за рейс. Ремесленники, у которых отбирали последнее. Даже женщины, потерявшие кормильцев, шли к нему как к последней надежде.
Кто-то просил защиты, кто-то – справедливости, кто-то просто хотел быть рядом с тем, в ком чувствовалась сила. И он принимал всех. Не потому что жаждал власти, а потому что не мог иначе. Это была его Одесса, его люди.
***
Однажды вечером, когда багровое солнце тонуло в море, к нему в комнату зашёл незнакомец. Высокий, подтянутый, с аккуратной короткой бородкой и в дорогом, нездешнем пальто.
– Господин Япончик, – сказал он с лёгким, едва заметным акцентом, который выдавал в нём человека не из Одессы. – Меня зовут Козловский. Я представляю интересы новых властей.
Мишка медленно поднял бровь, не отрываясь от своего стакана с чаем.
– Каких именно властей? Они у нас теперь каждый день новые.
Гость холодно улыбнулся, и в его глазах не было ни капли тепла.
– Тех, что уже завтра будут решать, кто в этом городе живёт, а кто – нет. Вы человек влиятельный, господин Япончик. Умный. Такие люди нам нужны.
Мишка не спеша размешал сахар ложкой, глядя на воронку в стакане. Звон металла о стекло был единственным звуком в комнате.
– А вы знаете, господин Козловский, – сказал он так же негромко, – что у нас в Одессе больше всего любят, когда с человеком говорят прямо? Без всех этих ваших столичных фокусов.
Козловский чуть наклонился вперёд, его голос стал жёстче.
– Тогда прямо. Мы предлагаем вам выбор: полное сотрудничество – или война.
Повисла тишина. Тяжёлая, звенящая. За окном пронзительно кричали чайки, и ветер трепал мокрое бельё на верёвках.
Мишка отставил стакан и посмотрел на Козловского в упор. Его взгляд был настолько прямым, что тот невольно отшатнулся на шаг назад.
– А если я выберу третье?
– Третьего не дано.
Мишка медленно встал и подошёл так близко, что Козловский почувствовал исходящую от него угрозу.
– Ошибаетесь. В Одессе всегда есть третье. Это когда мы живём по-своему. И никому не позволяем указывать, как нам дышать.
Позже, когда за Козловским бесшумно закрылась дверь, Сенька, всё это время стоявший в тени, спросил:
– Думаешь, сунутся? Пойдут войной?
– Пойдут, – спокойно ответил Мишка. – А мы их встретим.
Он подошёл к окну. С моря тянуло свежестью и свободой. Вдалеке, на рейде, мерцали огни кораблей, словно далёкие звёзды, упавшие в воду.
В этом призрачном свете Одесса казалась живой, прекрасной женщиной, которая улыбается сквозь слёзы. И Мишка вдруг остро понял – всё только начинается. Ни выстрелы, ни кровь, ни политика больше не страшили его.
Страшнее было другое – потерять свою Одессу. Ту, где можно было смеяться во всё горло, драться до первой крови, любить без оглядки и не бояться быть собой.
Он вытащил из кармана медную монету, подбросил её на ладони.
– Пора собирать людей, Сенька.
– Кого именно?
– Всех, кто ещё не разучился отличать честь от выгоды.
Он бросил монету в стакан с остывшим чаем. Тихий звон разрезал воздух, как удар маленького колокола, отсчитывающего новое время.
В ту ночь над городом снова шёл дождь. Капли монотонно стучали по крыше, будто невидимый счётчик отмерял последние мгновения. До той Одессы, которую он знал и любил, оставались считанные дни.
Глава 2. Город и его человек
Тяжёлый, едкий ветер с моря приносил запах мазута, гари и гниющей рыбы. Нервная, лихорадочная весна стремительно перетекла в удушающее, раскалённое лето.
Одесса кипела – то ли от безжалостного солнца, то ли от липкого, всепроникающего страха.
Каждое утро было неотличимо от предыдущего: глухие выстрелы где-то за Балковской, тревожный гул портовых сирен и отчаянные крики газетчиков на углах, выкрикивающих заголовки, от которых кровь стыла в жилах.
На обшарпанных стенах домов, словно оспенные язвы, пестрели свежие афиши – с незнакомыми, суровыми лицами комиссаров, громкими лозунгами и туманными обещаниями «новой жизни».
Но у Молдаванки была своя, неписаная власть. И у этой власти было имя, которое произносили с уважением и опаской. Его звали просто – Мишка.
Его штаб расположился на втором этаже бывшего ресторана «Монте-Карло». Когда-то здесь гремела музыка, лилось рекой шампанское и кружились в танце нарядные пары.
Теперь воздух пропитался запахом дешёвого табака, кожи и оружейной смазки. На стене, вместо зеркал в золочёных рамах, висела подробная карта города, истыканная булавками и перечерченная карандашными линиями, словно у настоящего полководца.
За окном надсадно ржали лошади, а внизу, во дворе, хрипло спорили о том, кто теперь командует портом и кто держит рынок.
Мишка слушал эти звуки, но молчал, погружённый в свои мысли.
– Говорят, красные предлагают тебе звание командира, – в комнату бесшумно вошёл Сенька Псаломщик, его верный помощник.
– Пусть предлагают, – не поднимая глаз от карты, ровно ответил Мишка. – Предлагать – не значит получить согласие.
– Они настроены серьёзно. Прислали официальные бумаги, с печатями. Хотят, чтобы ты возглавил «революционный отряд».
– Отряд чего? – в голосе Мишки прозвучала неприкрытая ирония.
– Отряд защиты Одессы, – усмехнулся Сенька. – С фантазией у них всё в порядке.
Мишка медленно поднялся, прошёлся по скрипучему паркету.
– Они и вправду думают, что если нацепить на меня красную звезду, их грабежи станут честным делом?
– Думают, что ты им нужен, – уже тише, серьёзнее сказал Псаломщик. – А на самом деле – отчаянно боятся.
Во дворе за рестораном собрались его люди. Молодые, измотанные, но преданные до последнего вздоха. Кто-то сосредоточенно чистил старый наган, кто-то жарил на костре картошку, делясь последним.
Трое парней, присев на корточки, играли в карты, лениво споря о будущем.
– Вот увидите, – горячо доказывал один, щербатый парень в тельняшке. – Год пройдёт – и всё изменится. Народ заживёт, как в сказке!
– В сказке, – хмыкнул второй, перетасовывая колоду. – Только ты забыл, что в любой сказке в конце кого-то обязательно съедают.
Мишка вышел к ним на крыльцо. Густая тень накрыла спорщиков.
– Слышу, опять делите шкуру неубитого счастья?
Парни обернулись, и их лица расплылись в улыбках.
– Да мы не спорим, Мишка. Мы просто мечтаем.
– Тогда мечтайте потише, – мягко, но веско ответил он. – Счастье любит тишину.
Он прошёл по двору, раздавая конверты с деньгами – вдовам своих ребят, убитых в недавней перестрелке. Своих Мишка не бросал никогда. Он установил на Молдаванке свой закон: бедных не грабить, детей не трогать, стариков уважать. И даже те, кто его боялся, в глубине души признавали: он справедлив.
***
Вечером он заехал к Софье Рубинштейн. Она жила на Французском бульваре, в тихом доме, где воздух был пропитан сладким ароматом акаций. Её врачебный халат одиноко висел на спинке стула, в квартире царил покой, такой неуместный в этом обезумевшем городе.
Соня встретила его на пороге без тени удивления, словно он только что выходил.
– Опять на бегу, Миша? – в её голосе слышалась усталая нежность.
– Всегда на бегу, – он позволил себе лёгкую улыбку. – В наше время кто остановится – того догонят и растопчут.
Он вошёл, устало опустился в кресло, снял свою неизменную кепку.
– Соня, ты ведь знаешь этих комиссаров. Что они за люди на самом деле?
– Люди разные, – она села напротив. – Среди них есть и честные идеалисты, и страшные фанатики. Но все они без исключения верят, что прямо сейчас творят великую историю.
– А на деле творят только кровь и грязь.
– История никогда не писалась белыми перчатками, Миша.
– Я просто не хочу, чтобы мою историю писали их кровавыми чернилами.
Соня посмотрела на него долгим, пронзительным взглядом.
– Ты не сможешь вечно оставаться в стороне. Рано или поздно они заставят тебя выбрать, на чьей ты стороне.
Он тяжело вздохнул.
– Выбрать? Я уже давно всё выбрал. Я на стороне своего города.
***
Поздно ночью его люди привели двоих самозванцев. Худые, наглые парни, от которых разило дешёвой водкой.
– Шныряли по подвалам, собирали «революционный налог» с лавочников. Представлялись новой властью.
Мишка окинул их ледяным взглядом.
– И какой именно властью? У нас тут каждая вторая подворотня мнит себя властью.
Один из задержанных дерзко вскинул голову:
– Мы из революционного комитета!
– Поздравляю, – спокойно произнёс Мишка. – Только вот революции в Одессе и без вас хватает. А вот порядка – нет.
Он коротко кивнул своим людям. Парней скрутили и вышвырнули за ворота, преподав урок на всю оставшуюся жизнь.