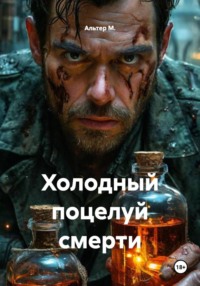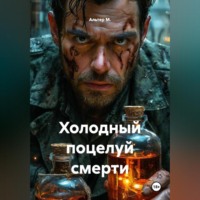Полная версия
Кукловод из плоти

Альтер М.
Кукловод из плоти
Глава первая: Шрам Ариадны
Всегда, ровно за мгновение до первого разреза, в операционной воцарялась особая, звенящая тишина. Она не была пустотой – она была насыщена сосредоточенной энергией десятка людей, сфокусированных на одном квадратном сантиметре человеческой плоти. Шум системы вентиляции, ровное сипение аппарата искусственной вентиляции лёгких, прерывистый пик мониторов – всё это сливалось в единый саундтрек ритуала, где главным жрецом был он, доктор Артём Каменев.
– Скальпель.
Его голос, приглушённый маской, был спокоен и лишён всякой аффектации. Сестра-инструментальщица привычным движением вложила холодную рукоятку в его протянутую ладонь. Под тонким слоем латекса пальцы помнили каждую микронеровность инструмента. Артём сделал вдох. Воздух, пахнущий антисептиком и холодной сталью, заполнил лёгкие. Взгляд скользнул по белоснежному полю, очерченному стерильным бельём, в центре которого лежала бледная, почти восковая кожа живота пациентки. Грыжа. Казалось бы, рутинная операция. Но для Артёма ни одной рутинной операции не существовало.
Лезвие коснулось кожи – точное, безжалостное, выверенное движение. Алый ручеёк тут же выступил из-под разреза. Мир сузился до раны. До мышечных фасций, жировой прослойки, апоневроза. Его руки, словно живые существа, обладающие собственным разумом, двигались с гипнотической точностью: коагуляция сосудов, раздвигание тканей, выделение грыжевого мешка. Ассистенты ловили каждый его жест, сестра предвосхищала следующие инструменты. Это был танец. Сложный, смертельно опасный танец на лезвии бритвы, где партнёром была сама жизнь.
Именно в такие моменты к нему и приходило Оно. То чувство, которое он не мог описать ни в одном медицинском учебнике. Оно начиналось как лёгкое головокружение, едва уловимое изменение давления в височных долях. Затем появлялось цветовое пятно на внутренней стороне век – сегодня оно было тёплым, золотисто-янтарным. И пальцы начинали… слышать.
Он чувствовал не просто ткани. Он ощущал самую суть плоти, её скрытый потенциал, её память. Коллагеновые волокна пели ему тихую, монотонную песню, клетки шептались на языке белков и ферментов. Это был хаос, живой и пульсирующий, но в его руках он обретал форму. Все хирурги в какой-то степени были скульпторами, но Артём… Артём был дирижёром. Он не просто сшивал, он убеждал плоть принять новую конфигурацию, более совершенную, чем та, что была дана ей от природы.
Грыжевой мешок был ушит. Наступала та часть операции, которую в официальном протоколе называли «пластикой апоневроза», а Артём в мыслях именовал «тихой работой». Он наложил шов, но не стал его затягивать до конца. Кончик иглы замер. Он закрыл глаза на долю секунды, позволив янтарному пятну позади век заполнить всё поле зрения. Его пальцы, держащие иглодержатель, ощутили лёгкую вибрацию, словно по живым нитям ткани пробежал ток сверхнизкого напряжения.
Он не приказывал. Он предлагал.
Сложитесь, – шептало его сознание, обращаясь к клеткам, к фибробластам, к всему этому микрокосму под его пальцами. Сложитесь не в беспорядочный рубец, а в узор. В нечто прекрасное.
Это было сродни игре на невидимом инструменте. Лёгкое натяжение, едва уловимое смещение, мысленный образ, проецируемый прямо в плоть. И ткань отвечала. Он чувствовал, как волокна коллагена начинают выстраиваться не хаотично, а по спирали, образуя сложную, фрактальную структуру, похожую на папоротник или морозный узор на стекле. Шрам, который останется после этой операции, не будет уродливым багровым шнуром. Он будет похож на изящную, золотистую ветвь, проступающую сквозь кожу. На нежный автограф тела, свидетельствующий не о травме, а о преображении.
Он делал это годами, с того самого дня, как впервые взял в руки скальпель на вскрытии в институте и понял, что мёртвая плоть поёт для него прощальную, полную скорби песнь. Сначала он боялся, думал, что сходит с ума. Потом научился скрывать это, маскируя результаты своей «работы» под феноменальную хирургическую технику. Его швы заживали в два раза быстрее, его пациенты почти не испытывали послеоперационных болей, а рубцы и впрямь становились едва заметными, если не присматриваться к их причудливой, идеальной структуре.
– Доктор? – тихо позвал его ассистент, прерывая трансовое состояние. – Всё в порядке?
Артём открыл глаза. Золотистое пятно исчезло. «Слышание» отступило.
– Всё в порядке, – его голос снова был ровным и профессиональным. – Заканчиваем.
Час спустя, стоя под струями почти обжигающе горячего душа, он пытался смыть с себя не только запах антисептика, но и остатки того странного, изменённого состояния сознания. Оно всегда оставляло после себя странную опустошённость, смешанную с эйфорией, похожую на ломку у мистика после видения. Он упирался руками в кафельную стенку, позволяя воде бить ему в затылок. Вспоминал лицо пациентки – пожилой женщины, которая боялась, что шрам не даст ей носить любимое платье. Теперь сможет. Её шрам будет похож на украшение.
В гардеробе, переодеваясь в уличную одежду, он наткнулся на свёрток, лежавший на полке. Небольшая, плоская коробка, перевязанная грубой бечёвкой. На ней не было ни имени отправителя, ни каких-либо других пометок. Артём нахмурился. Принесла ли её сестра? Или санитарка? Он развязал бечёвку и открыл крышку.
Внутри, на чёрном бархате, лежала фотография. Чёрно-белая, высокого качества. На ней был запечатлен… человек. Вернее, то, что когда-то было человеком. Мужчина средних лет стоял в классической позе античного дискобола, но его тело было ужасающим образом трансформировано. Ребра с одной стороны были вывернуты наружу, образуя нечто вроде веера или крыла, кости пальцев на одной руке сплетены в сложный, кельтский узел, а на месте глаза зияла идеально ровная, круглая впадина, из которой, словно зрачок, рос крошечный, бледный гриб. Это не была случайная уродливая мутация. Это была скульптура. Живая, дышащая, чудовищная скульптура. И в каждом изгибе, в каждой кости, в каждой натянутой до предела связке читалась та же рука, тот же дар, что был и у Артёма. Но направленный не на исцеление, не на гармонию, а на нечто совершенно иное. На создание новой, пугающей формы жизни из старого, изначального материала.
Артём отшатнулся от коробки, словно от раскалённого железа. Сердце заколотилось в груди, в висках застучало. Он сглотнул комок, подступивший к горлу. Кто это сделал? Зачем прислал ему это? Предупреждение? Вызов?
Его пальцы сами потянулись к фотографии. Он перевернул её. На обороте, аккуратным, почти каллиграфическим почерком, было выведено всего три слова:
«И я тоже вижу».
Холодная волна прокатилась по его спине. Он не был один. Все эти годы он думал, что он – уникальный феномен, аномалия. А оказалось, есть кто-то ещё. Его «коллега». Художник, чьим холстом была плоть, а красками – боль и уродство.
Он почти бегом выскочил из больницы, не в силах дышать спёртым, пропитанным лекарствами воздухом. Вечерний город встретил его прохладным ветром и назойливым гулом машин. Он шёл по улицам, не видя ничего вокруг, сжимая в кармане пальцатую фотографию. Слова на обороте жгли ему сознание. «И я тоже вижу».
Что он видел? Тот же золотистый свет? Ту же музыку клеток? Или нечто иное? Тьму вместо света? Диссонанс вместо гармонии?
Он зашёл в первый попавшийся бар, тёмный, душный, пахнущий пивом и старым деревом. Заказал виски, двойную порцию, и осушил бокал почти залпом. Алкоголь обжёг горло, но не смог прогнать холод, засевший глубоко внутри. Он достал фотографию и положил её на столик перед собой, в полосу света от дрожащей неоновой вывески.
«Дискобол». Это было первое, что пришло ему в голову. Скульптура. Но скульптура живая. Он, как хирург, понимал невероятную сложность этой «работы». Вывернуть рёбра, не задев лёгкое? Сплести кости пальцев, не нарушив кровоснабжение? Вживить в глазницу гриб, заставив его прижиться? Это требовало не просто дара. Это требовало глубочайших знаний анатомии, физиологии, хирургической техники, превосходящих его собственные. И абсолютного, леденящего душу бесстрашия. Безразличия к страданию. Может, даже любви к нему.
Он провёл пальцами по изображению, словно пытаясь ощутить текстуру вывернутых рёбер, шершавость гриба. Его собственный дар всегда был для него инструментом служения. Красота, которую он творил, была побочным продуктом исцеления. А здесь… здесь красота была целью. Но красота какого-то запредельного, инфернального свойства. Красота, рождённая из насилия над самой природой человека.
Он заказал ещё один виски и начал анализировать, как врач анализирует симптомы болезни. Первый симптом: существование другого обладателя дара. Второй: его методы радикально отличаются от методов Артёма. Третий: он знает об Артёме. Четвёртый: он вышел на контакт. Агрессивный, пугающий, но контакт.
Зачем?
Чтобы продемонстрировать своё превосходство?
Чтобы найти единомышленника?
Чтобы предупредить?
Или чтобы начать игру?
Мысли путались, виски не помогал. Артём чувствовал себя как подопытный кролик, внезапно осознавший, что за ним наблюдают через стекло вивария. Вся его жизнь, его карьера, его тихая, скрытая от всех магия – всё это оказалось под угрозой. Хуже того – под сомнением. А что, если его путь – не единственно верный? Что если этот… кукловод из плоти… видит нечто более истинное? Более реальное?
Он вспомнил одну из своих первых осознанных «переписок». Молодой парень, жертва ДТП, с рваной раной на лице. Артём не просто сшил ткани. Он уговорил их срастись так, что шрам лег изящной линией вдоль скулы, подчёркивая, а не уродуя мужские черты. Парень потом писал ему благодарственные письма. Это давало Артёму силы. А что давало силы этому другому? Восторг жертв? Их страх? Их немое, замершее в бесконечной агонии существование?
Он посмотрел на свои руки. Длинные, тонкие пальцы хирурга, способные творить чудеса. Руки, в которых плоть оживала, преображалась, становилась лучше. А теперь он знал, что где-то есть другие руки, такие же умелые, такие же одарённые. Руки, которые ломают, перекраивают, создают монстров.
Он заплатил по счету и вышел на улицу. Ночь была беззвёздной, небо затянуло тяжёлой, низкой облачностью. Городской свет окрашивал её в грязно-оранжевый цвет. Артём стоял, втянув голову в плечи, и чувствовал, как на него смотрит весь этот огромный, спящий город. Сотни тысяч людей, каждый со своей плотью, со своей кожей, со своими костями. И двое из них, двое хирургов-волшебников, могли переписать их, как переписывают черновики. Один – чтобы спасти. Другой… чтобы создать нечто новое. И ужасное.
Он достал телефон, собираясь позвонить кому-нибудь, поделиться этим кошмаром. Но кому? Коллеге? «Привет, Сергей, представляешь, я тут получил фотографию живого человека, превращённого в скульптуру, и, кажется, есть ещё один парень, который умеет вязать из костей узлы, как думаешь, мне к психиатру?» Нет. Этому не было объяснения. Это можно было только принять. Или отвергнуть, списав на чью-то чудовищную шутку.
Но он-то знал. Знать, что это не шутка. Его пальцы помнили ту вибрацию, тот шёпот плоти. И он понимал, что почерк на фотографии – почерк мастера. Мастера своего, пусть и ужасного, дела.
Он повернулся и медленно пошёл к своему дому. Каждый шаг давался с трудом. Он чувствовал себя не хирургом, вернувшимся с удачной операции, а мальчишкой, который только что обнаружил, что в его уютном, знакомом подвале живёт чудовище. И это чудовище знает его имя.
Дома он заперся в кабинете, включил настольную лампу, отбрасывающую узкий круг света, и снова положил перед собой фотографию. Он изучал её уже как клинический случай, выискивая детали. Состояние кожи вокруг вывернутых рёбер – нет признаков некроза, идеальное кровоснабжение. Гриб в глазнице – явно симбиотический организм, возможно, модифицированный. Поза «Дискобола» – неестественная, но мышцы были перестроены так, чтобы поддерживать её без видимого напряжения. Это была не пытка. Это было творение. Доведённое до абсолюта, до немыслимого предела.
И тогда его взгляд упал на кисть руки скульптуры. На запястье, там, где обычно носят часы или браслет, был шрам. Не случайный, не от пореза. Чёткий, ясный, искусственно созданный. Артём приблизил лицо почти вплотную к фотографии, всматриваясь. Шрам был сложным, геометрическим узором. Он изображал лабиринт. Идеальный, семиконтурный лабиринт.
Его собственная, самая первая сознательная «перепись», которую он сделал ещё интерном на практике, была шрамом в виде простого, одноконтурного лабиринта на руке молодой женщины, порезавшейся о стекло. Он тогда только учился, только пробовал свои силы. Этот, семиконтурный… это был следующий уровень. Эволюция.
Это было послание, адресованное лично ему. Не просто «я тоже вижу». А «я вижу больше. Я могу больше».
Артём откинулся на спинку кресла, закрыл глаза. Перед ним снова возникло то золотистое пятно, но на этот раз его оттенок был холодным, свинцовым. Он понимал, что его тихая, упорядоченная жизнь кончилась. Её место заняла завязка страшной, опасной истории, исход которой был неизвестен. Он больше не был единственным кукловодом в этом театре плоти. Появился другой. И его куклы уже начали оживать.
Он сидел так долго, до самого утра, глядя в одну точку, слушая, как за стенами просыпается город. Обычный город, с обычными людьми, с обычными болями и обычными шрамами. А он сидел здесь, в своей тихой комнате, держа в руках доказательство того, что реальность куда страшнее и причудливее, чем они все могли предположить. И что эта новая, ужасающая реальность теперь знала о его существовании.
И ждала ответа.
Глава вторая: Тихий патологоанатом
Рассвет застал Артёма в том же кресле. Он не сомкнул глаз ни на минуту. Фотография лежала на столе, и даже не глядя на неё, он видел каждый чёрточку, каждый изгиб того ужасающего тела. «Дискобол». Семиконтурный лабиринт. Слова «И я тоже вижу» плавали в сознании, как навязчивый мотив.
Первые лучи солнца, бледные и холодные, пробились сквозь жалюзи, прочертив на стене полосатые тени. Город просыпался, и вместе с ним просыпалось обыденное, привычное существование, в которое Артём больше не верил. Он встал, кости затрещали от неподвижности. Душ не смыл ни усталости, ни липкого страха. Пришлось натянуть на себя маску нормальности – свежая рубашка, белый халат, собранное выражение лица. Сегодня у него была смена.
Больница жила своей жизнью, не подозревая о том, что творится в голове одного из её лучших хирургов. Звонки телефонов, голоса из динамиков, спешащие санитары, запах лекарств и слабый, едва уловимый запах страха, исходящий от пациентов. Всё было как всегда. И от этого контраста между внешней рутиной и внутренней бурей стало ещё невыносимее.
Он делал обход, автоматически отвечая на вопросы, просматривая графики, отдавая распоряжения. Его пальцы, проверяя послеоперационные швы у его вчерашней пациентки, сами потянулись к тому месту, где под стерильной повязкой скрывался золотистый узор папоротника. Он ощутил слабый, едва заметный импульс – шрам «здоровался» с ним. Тёплый, живой отклик здоровой ткани. Обычно это чувство наполняло его спокойной радостью. Сейчас же он резко отдёрнул руку, будто обжёгшись. Его дар был родственен тому, другому. Тот же инструмент. Иная цель.
– Доктор, что-то не так? – встревожилась женщина.
– Всё в порядке, – ответил Артём. – Заживает прекрасно.
Он почти бегом покинул палату, чувствуя себя обманщиком. Он стоял на одной стороне, не так ли? Он исцелял. Но разве его тайные эксперименты с узорами – это не тоже самое высокомерие? Не игра в Бога? Вопросы грызли его изнутри, не давая передышки.
В ординаторской он налил себе кофе из старого эмалированного чайника. Горячая жидкость обожгла губы, но не смогла разогреть внутренний лёд. Он смотрел в окно на больничный двор, где гуляли пациенты в полосатых халатах, и думал: кто из них? Кто тот, кто видит? Коллега? Кто-то из персонала? Санитар? Медсестра? Или, может, пациент, который через него прошёл?
Мысль была пугающей. Он перебрал в памяти десятки лиц – хирургов, ординаторов, медбратьев. Все они казались нормальными, заурядными профессионалами. Ни в чьих глазах он не видел того безумного огня, той одержимости, которая должна была гореть в создателе «Дискобола».
Его спас от размышлений экстренный вызов. Поступление. ДТП. Молодой человек, мотоциклист, столкнувшийся с грузовиком. Множественные травмы, открытый перелом бедра, разрыв селезёнки, внутреннее кровотечение. Время было на исходе.
В операционной снова воцарилась знакомая напряжённая тишина, но на этот раз она была иной – не ритуальной, а боевой. Артём погрузил руки в горячую, липкую от крови рану. Мир снова сузился до разорванных тканей, до обломков кости, до падающего давления и криков анестезиолога. Он работал на автопилоте, его профессионализм взял верх над смятением. Зажимы, лигирование, удаление селезёнки, промывание брюшной полости.
И вот, когда дело дошло до сложного, многооскольчатого перелома бедренной кости, его дар проснулся сам, без зова. Золотистое пятно вспыхнуло позади век, пальцы ощутили знакомую вибрацию. Обломки кости лежали перед ним, как части разбитой вазы. Стандартная процедура – совместить, скрепить пластиной, надеяться на лучшее. Но его руки уже знали другой путь.
Сложитесь, – прошептало что-то внутри. Не просто сраститесь. Сраститесь крепче, чем было. Создайте новую архитектуру.
Он чувствовал, как может это сделать. Как уговорить остеобласты выстроить костную ткань по спирали, создав внутренний, силовой каркас, который сделает кость в этом месте прочнее титана. Это было бы исцеление нового уровня. Чудо.
И в этот самый момент перед его внутренним взором всплыло изображение «Дискобола». Вывернутые рёбра. Сплетённые в узел пальцы. Холодный ужас сковал его. Где грань? Где та черта, за которой исцеление превращается в извращение? В насилие? Если он сегодня убедит кость срастись в спираль, что он заставит сделать завтра? Срастись в узор? В орнамент?
Он замешкался. Руки его дрогнули. Иглодержатель замер в воздухе.
– Доктор Каменев? – встревоженно произнёс ассистент. – Проблемы?
Артём с силой выдохнул. Золотистое пятно погасло. «Слышание» исчезло.
– Нет, – его голос прозвучал хрипло. – Продолжаем. Стандартная остеосинтезная пластина.
Он отступил. Впервые за много лет он сознательно подавил свой дар. Он действовал как обычный, пусть и блестящий, хирург. И в глубине души он почувствовал не облегчение, а горькое разочарование. Словно предал самого себя. Словно отказался от части своей сущности.
Операция закончилась успешно. Пациента перевели в реанимацию. Артём, сняв халат, чувствовал себя опустошённым и выжатым. Он не пошёл в душ. Он просто сидел в пустой ординаторской, уставившись в стену. Страх перед другим «кукловодом» парализовал его собственный дар. Он оказался в клетке.
Именно в этот момент в ординаторскую вошла Лидия Семёновна, патологоанатом. Пожилая, сухонькая женщина с лицом, испещрённым морщинами, и пронзительными, не по-старчески яркими глазами. Она возглавляла патологоанатомическое отделение больше сорока лет и была живой легендой больницы. Её звали «Тихий патологоанатом», и говорили, что мёртвые рассказывают ей свои тайны куда охотнее, чем живые – своим психотерапевтам.
– Артём, – кивнула она ему, направляясь к кофейнику. – Вид у тебя, как у моего вчерашнего клиента. Только тот был попригляднее.
Он попытался улыбнуться, но получилось криво.
– Бессонная ночь, Лидия Семёновна.
– Расскажи мне, – она села напротив, держа в худых, почти скелетических пальцах кружку с трещиной. – Бессонница у хирургов обычно бывает двух видов: либо совесть мучает, либо голова. У тебя, я смотрю, и то, и другое.
Он посмотрел на неё. Лидия Семёновна всегда обладала даром видеть насквозь. Он почти физически ощущал, как её взгляд просверливает его защитные барьеры. И вдруг его потянуло выговориться. Не обо всём, конечно. Но о главном.
– Лидия Семёновна, – начал он осторожно. – Вы видели за свою практику… необычные случаи? Необычные… шрамы? Аномалии сращения тканей?
Старуха прищурилась. Её взгляд стал тяжёлым, изучающим.
– А почему ты спрашиваешь, золотко моё? Случай какой-то интересный попался?
– Можно и так сказать, – Артём отвернулся, делая вид, что поправляет рукав рубашки. – Просто… теоретический интерес.
Лидия Семёновна медленно отпила глоток кофе и поставила кружку на стол с глухим стуком.
– Теория – это для институтов. А у нас здесь практика. И да, видела. Разное видела. Рубец – это как подпись на документе под названием «травма». Один врач ставит закорючку, другой – печать, третий… – она замолчала, глядя куда-то в пространство за спиной Артёма. – Третий выводит целые картины. Так, что диву даёшься.
У Артёма заколотилось сердце. Он старался дышать ровнее.
– И что, бывало такое? Картины?
– Бывало, – коротко кивнула она. – Лет… дай бог памяти, десять назад. Поступил к нам мужчина. Бомж, подобранный на улице. Скончался от общего заражения крови. Старые шрамы были… необычные. На спине. Словно кто-то вывел иглой целый узор. Древнескандинавскую вязь. И кое-где… в узор были вплетены инородные включения. Щепки, камушки. И всё это было… живого. Прижилось.
Артём почувствовал, как холодеют его ладони. Это было оно. Более ранняя, может, менее совершенная работа.
– И что же с ним стало? – едва выдавил он.
– Что с ним стало? Похоронили его, конечно. Но отчёт я свой составила. И кое-что сохранила. Для коллекции, – она хитро посмотрела на Артёма. – Меня тоже, знаешь ли, интересуют… автографы.
Она встала, её движения были внезапно ловкими и быстрыми, как у молодой женщины.
– Пойдём, Артём. Покажу тебе кое-что. Раз уж твой интерес теоретический.
Он, не говоря ни слова, последовал за ней. Они шли по длинным, пустынным коридорам, спустились на лифте в подвал, где воздух стал холодным и густым, пропахшим формалином и смертью. Патологоанатомическое отделение было царством Лидии Семёновны. Она отперла тяжёлую дверь с табличкой «Архив» и включила свет. Люминесцентные лампы мигнули и зажглись, освещая ряды металлических шкафов и стеллажей, заставленных банками и папками.
Лидия Семёновна подошла к одному из шкафов в дальнем углу, достала ключ и отперла его. Внутри лежали не журналы, а странные предметы, каждый в отдельной коробке с этикеткой. Она достала одну, плоскую, длинную.
– Не бойся, это не он, – усмехнулась она, видя его напряжённое лицо. – Он давно в земле. Это… слепок. С тех самых шрамов.
Она открыла коробку. Внутри, на чёрном бархате, лежала гипсовая пластина, на которой был оттиснут рельефный, сложный узор. Тот самый, скандинавская вязь. Артём провёл пальцами по холодному гипсу. Узор был грубее, примитивнее, чем тот, что он создавал сам, или тот, что был на «Дискоболе». Но почерк угадывался. Тот же принцип – убедить плоть принять несвойственную ей форму. В узоре были углубления, где когда-то сидели щепки и камушки.
– Он… он был первым? – тихо спросил Артём.
– Первым из тех, что я видела, – поправила его Лидия Семёновна. – Но я почти уверена, что не последним. Иногда, очень редко, попадаются… странности. Необъяснимые с медицинской точки зрения. Кость, сросшаяся под невозможным углом. Рубцовая ткань, образующая идеальную геометрическую фигуру. Я собираю эти случаи. Записываю. – Она закрыла коробку и жестом показала на папки на полке. – Здесь. Моя коллекция курьёзов. Или… не курьёзов.
Она снова пристально посмотрела на Артёма.
– Твои пациенты, Артём, выздоравливают как-то уж слишком хорошо. А шрамы у них… слишком красивые. Случайность?
Он не нашёлся, что ответить. Она знала. Или догадывалась.
– Не бойся, я никому не скажу, – тихо произнесла она. – Каждый человек имеет право на свою тайну. Особенно если его тайна… помогает людям. В отличие от некоторых.
– Вы знаете о других? – выдохнул Артём.
– Я знаю, что есть кто-то, кто работает иначе, – её лицо стало суровым. – Год назад поступило тело. Молодая женщина. Официально – несчастный случай, падение с высоты. Но её тело… оно было изменено. Не так радикально, как твой «теоретический случай», но достаточно, чтобы понять – над ней поработали. Её позвоночник был… переписан. Изогнут в неестественную, но с точки зрения биомеханики устойчивую арку. Словно её готовили к тому, чтобы она ходила на четвереньках. Или чтобы стала живым мостом. Я пыталась поднять шум, но кто станет слушать старую патологоанатомшу? Списали на посмертные изменения.
Артём слушал, и ему становилось дурно. Это была не единичная выходка. Это была система. Целенаправленная, многолетняя деятельность.