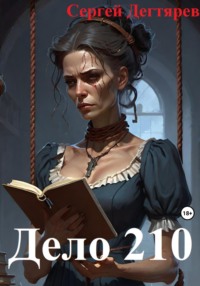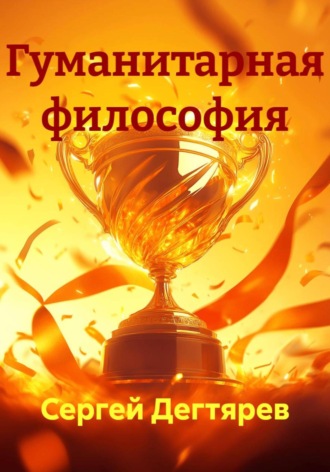
Полная версия
Гуманитарная философия: Как принимать ясные решения в хаосе
Определение философии обрело форму. Гуманитарный метод нашел свой голос и свою территорию. Не там, где спорят о фактах, а там, где человек, один на один с реальностью, задает себе самый важный вопрос: «Что я сделал?»
Гуманитарное определение научного метода
Наука гордится своим методом и принципом объективности. Но за этим фасадом единства скрывается ни на мгновение не прекращающаяся война.
E pur si muove
Свет оливковой лампы дрожал на столе, заваленном чертежами и свинцовидно-серыми осколками стекла. В этом свете Галилео Галилей казался высеченным из старого камня – морщины на лице были глубоки, как трещины на высохшей земле. Его пальцы, покрытые царапинами и следами сургуча, с нежностью, не свойственной его грубой натуре, вращали оправу линзы. Каждый поворот был сосредоточенным усилием воли, каждый вздох – тише шепота. Он не просто шлифовал стекло; он шлифовал окно в мироздание.
За дверью его мастерской дремала Флоренция, убаюканная колыбельной, что мир – плоский свиток, развернутый между раем и адом, а Земля – его неподвижный центр. Небесные сферы, отполированные до идеала, пели хвалу Творцу, и их музыку слышали лишь уши Аристотеля и толкователей Писания. Авторитет был алтарем, а сомнение – ересью .
Но разум Галилея, вооруженный куском свинцового стекла, уже скитался по безднам. Он видел, как Венера, «утренняя звезда» поэтов, меняла свои фазы, как Луна, которая, в свою очередь, точно лицо прокаженного, была испещрена горами, а Юпитер, верховный бог, плясал в хороводе собственных лун. Это не были иллюзии; это был новый завет, написанный светом. И он, Галилео, был его пророком.
Профессор Франческо Сицци явился к Галилею без предупреждения, как сквозняк, несущий запах ладана и тления. Сицци был худ, прям и холоден, точно клинок ритуального кинжала. Его глаза, маленькие и острые, избегали прямого взгляда, предпочитая скользить по свиткам на полках, как бы проверяя, на своем ли месте авторитеты.
– Мне говорили, ты созерцаешь новые небеса, Галилео, – голос Сицци был сухим, как шелест переворачиваемой страницы.
– Я созерцаю те же, – ответил, не отрываясь от линзы, Галилей. – Просто вижу их яснее.
Он подвел гостя к дубовому столу, где на тяжелой подставке покоился его телескоп – диковинный жезл, порождение алхимии стекла и света.
– Взгляни, Франческо. Юпитер. Увидишь то, что отрицает саму систему Аристотеля.
Сицци не двинулся с места. Его руки, сложенные на груди, сжались так, что кости побелели.
– Зачем? – спросил он. – Чтобы обмануть свои чувства кривым стеклом? Логика – вот единственный инструмент, данный человеку для постижения гармонии. Аристотель уже все сказал. Твои же «горы на Луне» – не что иное, как кривда линз. Если бы Луна была несовершенна, разве не сказал бы о том Стагирит?
– Логика начинается с наблюдения, Франческо! – Он хотел крикнуть, что Аристотель не видел этого! Что все они слепы, вглядывающиеся в пожелтевшие страницы вместо звездного неба, но голос его прозвучал хрипло. – Не с цитаты. Этот инструмент – продолжение моего глаза. Моей логики.
– Нет, – в голосе Сицци впервые прозвучала сталь. – Это подлог. Ты предлагаешь довериться тварному куску песчаного стекла больше, чем разуму, озаренному верой и знанием предков. Ты не открываешь истину. Ты свергаешь авторитет. И за это нет прощения.
Он развернулся и вышел, оставив за собой не просто молчание, а вакуум, в котором задыхалось все живое.
Годы спустя, под сводами своего кабинета, ставшего ему тюрьмой, старый ученый писал свой «Диалог». Это была осада. Он вложил свои мысли в уста трех персонажей: мудрого сторонника Коперника, нейтрального искателя истины и глупца Симпличио, цепляющегося за догмы Аристотеля. Каждое слово было выверено, каждая метафора – отточенным клинком. Он не излагал теорию; он заставлял читателя прожить спор, ощутить вес доказательств и нелепость слепой веры. Он показывал фазы Венеры, он давал увидеть спутники Юпитера – не рассказывал о них. Он верил, что сама очевидность откроет глаза миру.
– Твои горы на Луне, мессер Галилей. – Кардинал-инквизитор смотрел на него не с ненавистью, а с холодным сожалением, с каким смотрят на безумца, пытающегося доказать, что вода горит, —Даже если они и есть, то такова воля Господа, ибо это не отменяет того, что Земля – центр Творения. Ты приносишь смуту в души, подменяя ясное учение Церкви призраками в кривом стекле.
И когда он, сломленный, произносил свои отречения, его губы шептали невысказанную правду: «E pur si muove» – «И все-таки она вертится».
Каменный парус
Альфред стоял на краю ледника, и ветер с Гренландии рвал дыхание из его груди. Он смотрел не на белизну под ногами, а на мысленный образ карты – две береговые линии, разделенные океаном. Африка и Южная Америка. Две половинки разорванного письма.
В Берлине его ждала другая стужа. Зал заседаний Геологического общества, отделанный темным дубом и скептицизмом, воздух которого протпитался пыльными истинами. Альфред разложил на столе свои экспонаты: отпечаток папоротника Глоссоптерис, найденный в угольных пластах Бразилии, и его брата-близнеца – из пластов Южной Африки. Рядом – схемы, где горные хребты, словно кости сломанного черепа, идеально сходились по разные стороны Атлантики.
Его оппонентом был не человек, а воплощение системы – профессор Отто Шульце, патриарх немецкой геологии. Его лицо, испещренное геологическими разрезами, выражало вежливую, несокрушимую уверенность. Его принципом была незыблемость. Настоящее – ключ к прошлому. Земля остывала, сжималась, как печное яблоко, образуя складки-горы. Медленно. Неуклонно. Вертикально.
– Коллега Вегенер, – голос Шульце был густым, как патока. Он не спорил, он констатировал, – ваши ископаемые очаровательны. Но разве сухопутные мосты, ныне погрузившиеся в пучину, не являются более… правдоподобным объяснением?
– Правдоподобным с точки зрения, чего, герр профессор? С точки зрения удобства? Континенты не статичны. Они движутся. Дрейфуют.
По залу пробежал сдержанный смешок: «дрейфуют», «летают», «нет – испаряются».
– Дрейфуют? – Шульце поднял со стола кусок гранита, тяжелый, холодный. – Чем? Какой механизм, какая сила способна сдвинуть с места целые континенты, сложенные насквозь такой породой? Вы предлагаете нам поверить в сказку о великане, который толкает материки, как льдины по воде?
– Механизм мне неизвестен, – признался он, и по залу прошел вздох облегчения. Признание! – Но разве слепой, наткнувшись на слона, отрицает его существование, потому что не может его видеть? Он чувствует шершавую кожу, слышит трубный рев, ощущает под ногами дрожь от шагов. Данные палеонтологии, геологии, климатологии – это кожа, рев и дрожь. Они указывают на одно: континенты были едины.
Шульце покачал головой.
– Наука строится не на догадках, коллега, даже самых красивых. Она строится на измеримых причинах. На объективности. А что такое объективность без механизма? – Он повернулся к аудитории, призывая их в свидетели. – Спекуляция. Фантазия.
Слово «фантазия» повисло в воздухе, тяжелое и унизительное. «Он не геолог», – говорили за его спиной.
В тот вечер, в своей каморке, заваленной книгами и картами, Альфред писал. За окном бушевала метель, такая же белая и слепая, как непонимание коллег.
«Объективность, – выводил он пером, чернила ложились на бумагу с вызовом, – это не слепое поклонение известной причине. Это мужество признать неоспоримое следствие. Если данные из разных царств – из мира камня, из мира растений, из древнего – льда кричат в унисон, их хор и есть объективная реальность. Даже если мы еще глухи к музыке сфер, что управляет их движением».
Он откинулся на стуле. Рукопись лежала перед ним, как завещание. Он знал – не сейчас. Он пытался сдвинуть континент догм, но у него не было рычага.
Уже после того, как Альфред Вегенер навсегда остался в ледяных объятиях Гренландии, молодой геофизик, изучая карты магнитных аномалий на дне океана, увидел то, что не мог видеть Вегенер. Он увидел гигантские ленты новой коры, расходящиеся от подводных хребтов. Он увидел механизм. Мантию, кипящую, двигающую плиты, – эти обломки разбитой когда-то Пангеи.
Тот камень, который профессор Шульце держал в руке как доказательство незыблемости, оказался не фундаментом, а парусом. Парусом на плите гигантского плота, плывущего по огненному морю. Правда Вегенера, когда-то осмеянная как «фантазия», стала аксиомой. Но триумф пришел слишком поздно, чтобы согреть того, кто, когда-то стоя на краю льда Гренландии, один видел движение в неподвижном мире.
Дождливые звезды
Осенний дождь застилал окна кабинета, превращая огни Праги в размытые акварельные пятна. Доктор Ян Викнер стоял у стекла, сжимая в руке заявку на финансирование. Толстая папка была его щитом и мечом в этой тихой войне, которую он вёл последние пять лет. В ней – статистика, графики, протоколы. Объективные данные.
За его спиной в кожаном кресле, неподвижно сидел его старый учитель, профессор Станислав Гроф. Он курил, и дым из трубки, словно мысль, медленно поднимался к потолку.
– Они снова отвергли, Ян? – в голосе Грофа был слышен не вопрос, но усталое знание.
– Не отвергли. Запросили дополнительные данные. Контрольные группы, двойные слепые исследования… – Ян повернулся, положил папку на стол. – Они хотят цифр.
– Мы предлагаем им целые миры, – указал мундштуком трубки на стопку исписанных листов на краю стола Гроф. – Сегодня у меня была пациентка. Анна. Пришла с фобией, боязнью темноты. Под холотропным дыханием она пережила не травму из детства. Она стала китом.
Ян сдержанно вздохнул. «Станислав снова за своё». Он подошёл к книжному шкафу, выровнял корешок учебника по нейрофизиологии.
– Станислав, я преклоняюсь перед вашей работой. Но мы не можем прийти в Академию наук с отчётом о том, как женщина почувствовала себя китом. Для них это не данные. Это поэзия. А наука требует фактов. Наблюдаемых, повторяемых, измеримых фактов.
– Факт в том, – отозвался Гроф, – что её фобия исчезла. Она ощутила себя частью океана, тьма которого стала не враждебной, а объединяющей. Разве это не измеримый результат? Разве исцеление – не конечный факт?
– Это корреляция, а не причинно-следственная связь! – голос Яна дрогнул. Он поймал себя на том, что говорит с учителем так, как говорил на последнем заседании совета. Он был там защитником трансперсональной психологии от скептиков в белых халатах. Но здесь, в этом кабинете, он сам чувствовал себя скептиком. Предателем. – Мы должны играть по их правилам, если хотим, чтобы нас услышали. Нужно найти биологический субстрат, нейронные связи, хоть что-то, что можно положить под микроскоп!
– Ты хочешь вскрыть телескоп, чтобы найти звёзды, Ян. – Поднялся с кресла Гроф. – Тот опыт, что переживают люди – рождение, смерть, слияние с вселенной – это и есть звёзды. Ненаблюдаемые с поверхности, но реальные. – Его высокая, чуть сутулая фигура встала прямо как обелиск. – Ты пытаешься доказать слепому, что такое цвет, описывая длину волны. Он никогда не поймёт. Ему нужно увидеть.
– А если он врождённо слеп? – резко парировал Ян. – Если этого «цвета» просто не существует? Если всё это – сложные биохимические галлюцинации, порождённые гипоксией или психоактивным веществом? Мы даём им ЛСД и просим поверить, что их видения – реальность.
– Я не прошу верить их видениям. Я прошу доверять переживанию. Систематизировать его. Каталогизировать. Это новый континент психики, и мы его картографы. А ты… – посмотрел на Яна с внезапной печалью Гроф, – ты хочешь построить вокруг него забор с предупреждением «Проход закрыт».
Он подошёл к столу и взял верхний листок из стопки – отчёт о сеансе Анны.
– Она описала давление. Темноту. Невыносимый гул. А потом – прорыв. Свет. Свободу. Первый вдох. Это же очевидно!
– Очевидно? – Ян зашёл с другой стороны стола, и массивная деревянная столешница стала баррикадой между ними. – Это перинатальная матрица, да. Теория. Красивая теория. Но для мейнстрима это не доказательство. Это интерпретация. Такая же, как у Фрейда. Сновидение – это не исполнение желания, это просто случайный сигнал мозга. А твоё «переживание рождения» – не более чем воспоминание тела о стрессе, вызванном гипервентиляцией!
Дождь усиливался, всё яростнее барабаня по стеклу.
– Прочти. Прочти её слова. – Гроф протянул листок Яну.
Ян не двигался. Его принципы, его броня из «объективности», всё, что он считал наукой, кричало ему «нет». Это был шаг в пропасть. Шаг назад, в мир мистики, от которого он так отчаянно пытался откреститься ради признания.
– Я не могу, – тихо сказал он. – Я не могу строить науку на этом.
– Тогда какая разница, одобрят они твоё финансирование или нет, Ян? – Гроф медленно опустил руку с листком. – Ты уже всё для себя решил. – В его глазах погас последний огонёк надежды. – Ты запираешь ворота, в которые сам когда-то вошёл.
Ян смотрел, как Гроф кладёт листок обратно в стопку. Он видел тонкую паутинку трещин на старой кожаной обложке его дневника. Он чувствовал кисловатый запах старой бумаги, табака и дождя. Он видел лицо учителя – не лицо упрямого мистика, а лицо человека, видевшего океан и пытавшегося рассказать о нём тем, кто верил только в сушу.
И в этот момент Ян Викнер, доктор наук, защитник рационального метода, вдруг с абсолютной, ослепляющей ясностью осознал, что проиграл. Не Академии. Не скептикам. Он проиграл самому себе. Он так боялся быть осмеянным, так жаждал признания, что согласился играть на чужом поле и по чужим правилам, забыв, зачем вообще начал эту игру.
Он больше не был картографом. Он был таможенником на границе известного мира. И его величайшей трагедией стало то, что он сам когда-то видел те далёкие берега, но теперь притворялся, что их не существует.
– Станислав… – начал он, но слова застряли в горле.
Гроф уже повернулся к окну, к потоку дождя. Его спина была ответом.
Ян взял со стола свою безупречную папку с объективными данными. Она была тяжёлой. Невыносимо тяжёлой. Он вышел из кабинета, тихо прикрыв дверь, оставив учителя одного с его ненаблюдаемыми, прекрасными и неуловимыми звёздами.
I
n vivo
Доктор Барри Маршалл, молодой, с пшеничными волосами, сжал в руке стеклянный сосуд. Внутри, в мутноватом бульоне, плескалась его одержимость – культура Helicobacter pylori.
– Барри, это безумие. – Артур Кроули, пожилой, в безупречном костюме, с лицом, испещренным научными баталиями, перекрывал собой окно, за которым раскинулась сонная Перта, солнечная суббота, но здесь, в царстве мерцающих микроскопов и чашек Петри, пахнущем остывшим кофе и едкой стерильностью, время текло иначе.
– Это необходимость, Артур, – не отрывал глаза от зловещей жижи Маршалл. – Они не читают статей. Не слушают выступлений. Они прячутся за свои учебники, как черепахи в панцирь.
– Потому что в учебниках – правда! – голос Кроули гремел, хотя он и не повышал его. – Язва – это стресс, образ жизни, избыток кислоты. Мы знаем это. А то, что вы с Уорреном там разглядели в свои микроскопы… это артефакты. Загрязнение, иного объяснения быть не может.
– Они там есть, Артур, – Барри резко повернулся. Его взгляд упал на стену, где висела схема желудка – алый мешок, разъедаемый собственной соляной кислотой. Догма, нарисованная красками. – Живые. В самой кислоте. Я их видел.
– Ничто не живет в аду! – Пальцы Кроули сжали портфель с докладом, который он принес на очередное «научное разбирательство». – Ваша бактерия противоречит фундаментальным биологическим принципам. Вы предлагаете нам поверить в невозможное.
– Я предлагаю вам посмотреть! – вспылил Маршалл. Он подошел к микроскопу, где был подготовлен гистологический срез ткани язвы. – Вот. Извивающиеся, живые. Пациент Уоррена…
– Единичное наблюдение! – отмахнулся Кроули. – Эпидемиология, Маршалл! Тысячи случаев, статистика! Это – объективность. А то, что вы делаете… это поиск сенсации. Вы готовы поставить под удар свою карьеру, репутацию всего нашего института ради фантазии.
Поздно вечером на кухне Адриенна – его жена тихо спросила:
– Что, если они правы? – Он сидел, уставившись в пустоту, обхватив голову руками. От него пахло формалином и отчаянием. – Что, если ты ошибаешься?
– А если я прав? – его голос сорвался на шепот. Он посмотрел на спящих детей за стенкой. – Миллионы людей годами пьют антациды, сидят на диетах, живут в страхе перед болью, которая возвращается вновь и вновь. А виноват не стресс, Адриенна. Виноват микроб. И его можно убить. За неделю. Это будет мир, в котором язва – не приговор.
– Они хотят неопровержимых доказательств? – сказал вслух Маршалл на следующее утро в лаборатории, в которой было особенно тихо. Его соратник, методичный Робин Уоррен, разбирал бумаги.
Маршалл посмотрел на ту самую чашку Петри. Бактерии образовали на поверхности мутную, сероватую пленку. Жизнь, порожденная им самим. – Хорошо. Они их получат.
Он взял мензурку, налил в нее немного бульона. Рука не дрогнула. Мысленно он видел насмешливую ухмылку Кроули, его фразу: «Эксперимент in vivo, Маршалл? Проведите на человеке, тогда и поговорим».
Что может быть объективнее, чем живой организм? Что может быть неоспоримее, чем боль, рожденная в твоем собственном теле?
Он поднес мензурку к губам. Жидкость была теплой, с неприятным, болотистым привкусом. Он залпом выпил ее.
– Боже правый, Барри… – Уоррен замер. – Что ты наделал? – Его лицо вытянулось.
Маршалл поставил мензурку. Глотая противную слюну, он вытер губы.
– Теперь это эксперимент in vivo на человеке, Робин.
Через несколько дней у него внутри разверзся ад. Сначала – просто тяжесть, тупая боль под ложечкой. Потом – тошнота, от которой сводило челюсти. Он скрывал это ото всех, кроме Адриэнны, которая смотрела на него с растущим ужасом в глазах. Он перестал нормально есть, похудел, его глаза впали. Он ходил на работу, делал записи в дневнике, ведя протокол над самим собой, как над подопытным кроликом.
На конференции, куда он явился бледным и осунувшимся, Кроули с торжеством заметил:
– Выглядите ужасно, Маршалл. Нервное истощение? Язва на нервной почве? Прямо по учебнику.
Маршалл не ответил. Он лишь улыбнулся – напряженной, вымученной улыбкой. Боль внутри была его самым веским аргументом. Его живым, дышащим, страждущим доказательством.
Он продержался две недели. Когда боль стала невыносимой, он пришел в лабораторию и сделал гастроскопию самому себе. Зонд, терзающий его собственное горло, был актом последнего, отчаянного самоистязания. На мониторе он увидел то, что и ожидал: воспаленную, покрытую эрозиями слизистую его собственного желудка. Гастрит. Тот самый.
Он взял биопсию. Под микроскопом извивались те самые бактерии. Те самые, что он выпил.
Только тогда он начал курс антибиотиков. Боль отступила, как по мановению волшебной палочки. Ясность мысли, здоровый аппетит, сила – все вернулось. Он не просто выздоровел. Он воскрес.
Он распечатал протокол своего эксперимента: графики, фотографии гистологических срезов, данные гастроскопии до и после, и положил его на стол перед Кроули.
Тот медленно листал страницы. Его надменная маска треснула. В глазах, привыкших к чтению сухих статистических отчетов, мелькнуло нечто новое – потрясение, смешанное с ужасом перед масштабом этого самопожертвования.
– Вы… вы рисковали жизнью, – прошептал он.
– Объективность, Артур, – тихо ответил Маршалл. – Это не то, что написано в самых толстых книгах. Это то, что происходит с живым организмом. Даже если этим организмом являюсь я сам.
Барри Маршалл, Робин Уоррен – Нобелевская премия по физиологии или медицине 2005 год.
Диалог на миллиард лет
Лин прищурилась, но не от ослепительного, безжалостного света, который заливал кабинет. Она чувствовала себя микробом на предметном стекле под микроскопом самого профессора Мортона.
Профессор Артур Мортон, патриарх факультета эволюционной биологии, сидел за своим массивным столом, не предлагая ей сесть. В его руках была ее статья – та самая, в которую она вложила годы, всю свою энергию и дерзкую надежду. Рукопись выглядела чужим и жалким существом в его холеных пальцах.
– Ну что ж, мисс Маргулис, – его голос был ровным и холодным, как сталь скальпеля. – Я ознакомился с вашей… работой.
Он произнес это слово с такой легкой, уничижительной паузой, что у Лин сжалось сердце. Она молчала, сжимая влажные ладони в кулаки, чувствуя, как под строгим воротничком блузки на шее выступает предательский пот.
– Вы предлагаете нам поверить, – Мортон отложил статью, как откладывают испачканную салфетку. – Что сложная клетка – это не результат долгой, кропотливой конкурентной борьбы, последовательных мутаций и отбора, а некий… симфонический оркестр из бактерий. Что митохондрии – это бывшие захватчики, решившие вдруг поселиться в гостеприимном доме. Это не наука, мисс Маргулис. Это фантазия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.