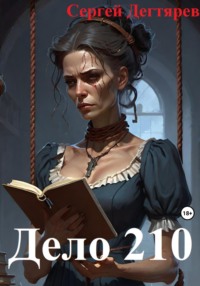Гуманитарная философия: Как принимать ясные решения в хаосе
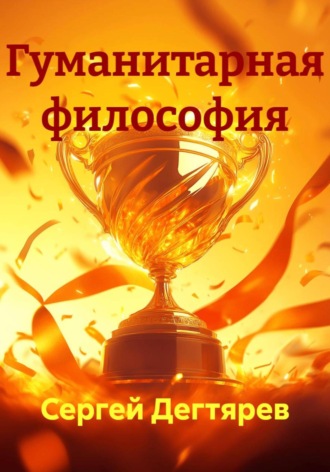
Полная версия
Гуманитарная философия: Как принимать ясные решения в хаосе
Язык: Русский
Год издания: 2025
Добавлена:
Настройки чтения
Размер шрифта
Высота строк
Поля
Конец ознакомительного фрагмента
Купить и скачать всю книгу