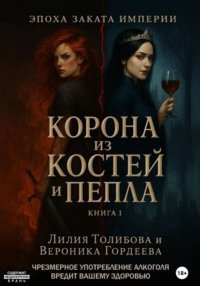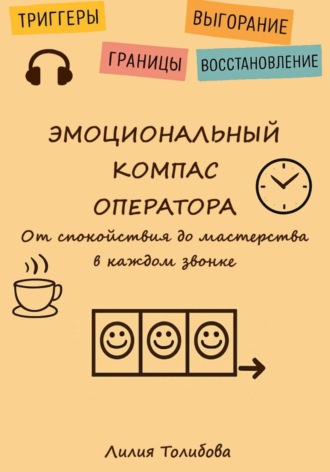
Полная версия
Эмоциональный компаc оператора
Более того, голосовая коммуникация – это интимная форма контакта. Голос собеседника звучит прямо в вашем ухе, создавая ощущение близости. Интонации, эмоции, дыхание – всё это воспринимается очень личностно. Невозможно слышать крик в наушниках и не реагировать на него как на что-то, обращенное лично к вам.
❖ Профессиональная идентификация.
Как ни парадоксально, но чем больше вы вовлечены в работу, чем больше стараетесь быть хорошим специалистом, тем сложнее не принимать критику на свой счет. Когда вы искренне пытаетесь помочь, вкладываете усилия, переживаете за результат – критика вашей работы воспринимается как критика вас лично.
«Вы плохо работаете», «Вы не помогли» – если вы действительно старались, эти слова ранят гораздо глубже, чем если бы вы относились к работе формально. Получается странный парадокс: ответственность и вовлеченность делают вас более уязвимыми перед клиентским гневом.
Кроме того, когда вы проводите на работе значительную часть жизни, профессиональная идентичность становится частью идентичности личной. «Я – оператор» превращается не просто в описание того, чем вы занимаетесь, а в описание того, кто вы есть. И тогда атака на оператора воспринимается как атака на вас как личность.
❖ Накопленная усталость.
В начале смены, когда ресурсы еще свежи, легче сохранять психологическую дистанцию. Первый агрессивный клиент дня обычно переносится легче, чем пятый или десятый. С каждым сложным звонком эмоциональные границы истончаются, способность к рационализации снижается.
К концу смены, когда вы уже выслушали десятки претензий, решили сотни проблем, сдержали множество эмоциональных реакций, защитные механизмы психики истощаются. То, что утром вы бы отпустили с мыслью «это не про меня», вечером пробивает ослабленную защиту и ранит.
Кумулятивный эффект особенно опасен. Каждый отдельный звонок, возможно, и не страшен, но когда их сотни за смену, тысячи за месяц, десятки тысяч за год – даже маленькие уколы складываются в серьезные раны.
Отстраненность не равна безразличию: важное различие.
Один из самых распространенных страхов при разговоре об отстраненности – что это означает стать холодным, циничным, безразличным к людям. Многие операторы сопротивляются развитию отстраненности именно из-за этого: «Я не хочу превратиться в бездушного робота», «Я хочу оставаться человеком», «Если я перестану переживать, я стану плохим специалистом».
Это глубокое непонимание природы профессиональной отстраненности. Здоровая отстраненность не имеет ничего общего с цинизмом или безразличием. Это совершенно разные психологические состояния, хотя внешне они могут иногда выглядеть похоже.
Что такое здоровая отстраненность.
Здоровая профессиональная отстраненность – это способность сохранять эмоциональную дистанцию от проблем и эмоций клиентов, при этом оставаясь эмпатичным и желающим помочь. Это умение различать: где заканчиваются чужие эмоции и начинаются ваши собственные, где проходит граница между профессиональной ролью и личной идентичностью.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.