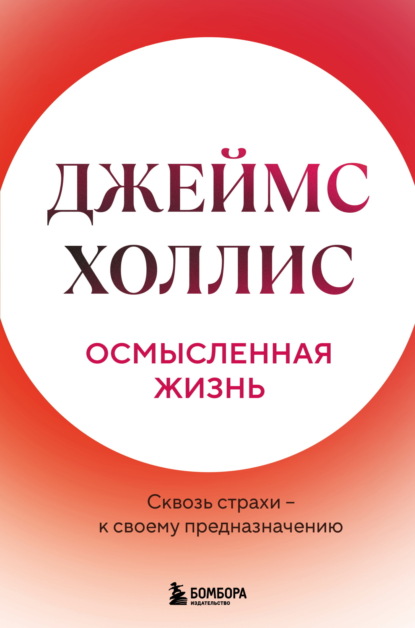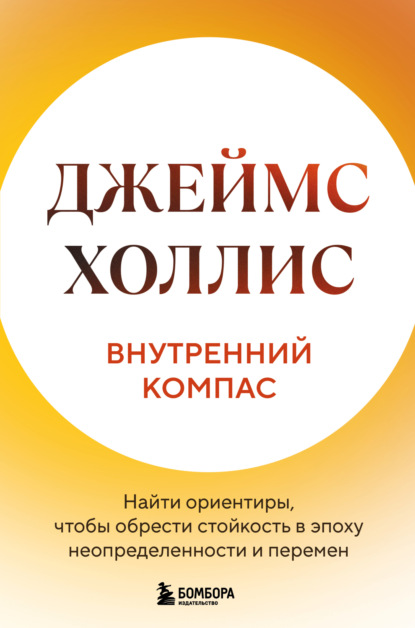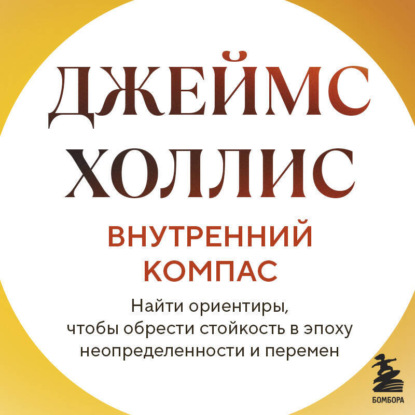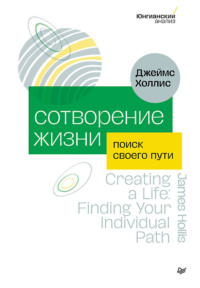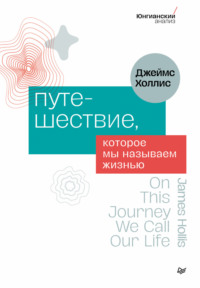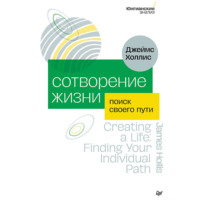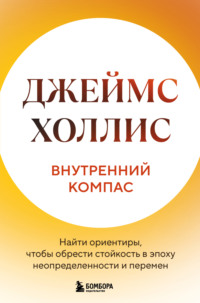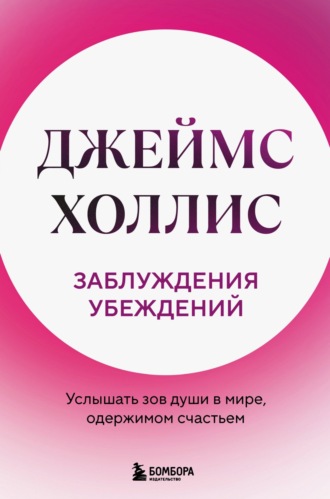
Полная версия
Заблуждения убеждений. Услышать зов души в мире, одержимом счастьем

Джеймс Холлис
Заблуждения убеждений
Услышать зов души в мире, одержимом счастьем
James Hollis
LIVING WITH BORROWED DUST: REFLECTIONS ON LIFE, LOVE, AND OTHER GRIEVANCES
Copyright © 2025 James Hollis. Foreword © 2025 Dennis Patrick Slattery. This Translation published by exclusive license from Sounds True Inc.
© Кухарева Г. А, перевод на русский язык, 2025
© Оформление. ООО «Издательство „Эксмо“», 2025
Оглавление
Посвящается Джилл – любви всей моей жизни – и нашим детям: Тарин и Тиму, Джоне и Си.
С благодарностью Лиз Харрисон, Лирик Додсон, Анджеле Уикс и Анастасии Пеллушу из издательства Sounds True за их вклад в создание этой книги.
Я лишь взял эту пыль взаймы.
– Стэнли КьюницУм, который не сбит с толку, не работает. Лишь поток, встретивший преграду, начинает петь.
– Венделл БерриВсякий свет, всякий огонь угасает, и тогда наступает кромешная тьма – если только не вспыхнет внутренний свет, высший свет самости.
– К. Г. ЮнгЗапрещено использование для обучения ИИ.
Не умаляя исключительных авторских прав автора и издателя, любое использование данного издания для «обучения» систем генеративного искусственного интеллекта (ИИ), включая создание текстов, строго запрещено. Автор сохраняет за собой все права на лицензирование использования этого произведения для разработки и обучения языковых моделей машинного обучения.
Предисловие
Я читаю книги Джеймса Холлиса и слушаю его подкасты уже много лет. И каждый раз он умудряется не только удивить, но и обрадовать, а главное – научить меня чему-то важному. Его способность проникать в суть человеческой природы всегда поражает меня глубиной, но при этом его размышления звучат легко, с доброй иронией и мягким юмором. Прежде всего он – врач души.
В своей работе Холлис соединяет три дисциплины: глубинную психологию, мифологию и поэзию. Как человек, занимающийся литературоведением и глубинной психологией, я ощущаю в нем родственную душу. Он с чуткостью и уважением обращается к нашим хрупким, полным сомнений и страданий жизням, а его постоянный интерес к поиску смысла становится важнейшей чертой его взгляда на человеческое существование. Как многим известно, он сам начинал с изучения литературы, а затем услышал – и принял – призыв стать юнгианским аналитиком. Но он никогда не предавал свою первую любовь – и по сей день его тексты пронизаны поэтической мудростью.
Одна из важнейших тем, которую Холлис исследует на этих страницах, – идея о человеке как об энергоносителе, проводнике и передатчике энергии, в духе Пьера Тейяра де Шардена и Джозефа Кэмпбелла. Подобно Кэмпбеллу, он напоминает нам, что для настоящего путешествия необходима смелость – войти в самые дремучие заросли, туда, где нет ни троп, ни указателей. И только там начинается собственный, подлинный путь. Зачастую этот путь открывается через вопросы, которые Холлис предлагает задавать себе каждому из нас – вопросы, служащие делу Психе: «Чему ты служишь?» и «Кто тебя призывает?». Уклониться от этих вопросов – значит обречь себя на жизнь в плену привычных схем мышления и поведения, которые создают иллюзию безопасности, но лишают нас шанса на глубину и подлинный рост.
Еще одна сквозная тема его размышлений – природа историй, которые мы рассказываем себе о самих себе. Эти истории могут быть как путеводной нитью на пути к смыслу, так и броней, защищающей нас от этого поиска. Холлис предлагает нам задуматься о двух историях: о той, которую мы думаем, что знаем, и о той, которая знает нас. Такая двойная перспектива позволяет нам не только лучше понять смысл своей жизни, но и почувствовать, что эта жизнь сама по себе говорит с нами, если только мы готовы слушать. А его фирменные афоризмы – короткие, меткие фразы, сразу бьющие в цель, – служат своеобразными камертонными нотами, настраивающими нас на глубинный резонанс. Например: «Нет ничего более мимолетного, чем удовлетворенная потребность». Это не просто удачная фраза, это приглашение остановиться, задуматься – и, возможно, пересмотреть свою привычную историю, не один раз, а столько, сколько потребуется.
Я снова и снова возвращаюсь к важнейшей мысли, к которой Холлис подводит своих читателей, – той самой, что Юнг формулировал в своем учении: психе по своей природе мифопоэтична. А потому практика активного воображения становится одним из ключей к диалогу между сознанием и бессознательным, между эго и самостью. В этом смысле эта книга – не просто чтение, а своего рода практическое руководство. Она не терпит пассивного восприятия – она приглашает к личной работе, к переживанию ее смыслов внутри собственной жизни.
При этом на всем протяжении книги ощущается еще один пласт – мемуарный. Но это не просто воспоминания, это скорее попытка пересмотреть свою историю с новой точки – из реальности старости, из опыта совместной жизни с Джилл в доме престарелых, из непосредственного соприкосновения со старением как процессом. Это не просто ретроспектива, а скорее образное припоминание себя – возможность увидеть свою жизнь как долгий, трудный, но глубокий процесс. И с этой точки зрения Холлис напоминает нам одну из своих любимых истин: «Все это совсем не о том, о чем кажется».
И наконец, подлинность. Это одно из ключевых слов в лексиконе Холлиса, то самое качество, без которого невозможны ни внутренний рост, ни возвращение к себе. Подлинность – это то, что позволяет восстановить и собрать воедино потерянные части себя, затерявшиеся в матрице современности, одержимой горизонтальной суетой за счет вертикальной глубины, где питается и обновляется Психе. Эта подлинность вырастает из отношения к жизни, которое Холлис предлагает всем своим читателям: «Я – не то, что со мной случилось. Я – то, кем я решил стать». Такой взгляд позволяет выйти за пределы чисто исторического самопонимания, не отрекаясь от прошлого, но открывая благодарный взгляд в будущее.
Как же точно Холлис выбрал для названия строки из завершающих строк стихотворения «Проходя мимо» Стэнли Кьюница, написанного, когда тому было семьдесят девять. В этих словах – освобождающая и в высшей степени универсальная истина о временности жизни, и именно поэтому каждое ее мгновение так ценно. Джеймс Холлис жил и учил, глядя на мир через эту призму – как врач души и проводник, – чтобы и другие могли сделать эту истину своим внутренним ориентиром, тем огнем, который освещает наш путь сквозь тьму и свет.
Деннис Патрик Слэттери, доктор философии, заслуженный профессор кафедры мифологических исследований в Pacifica Graduate Institute. Среди его последних книг – «Путь мифа: тонкая мудрость историй» и «Вымыслы наших убеждений: эссе о культурном воображении».
Сайт автора: dennispatrickslattery.com.
Введение
Жизнь, взятая взаймы у праха
Непостоянство – единственное обещание, которое дает нам жизнь, И оно исполняется с безжалостной точностью.
– Дженнифер ВеллвудЗа последние пять лет мне провели плановые операции по замене коленного и тазобедренного суставов, внеплановое лечение рака, включавшее операцию, лучевую терапию и химиотерапию, хирургическое вмешательство по поводу тромбоза глубоких вен, а также две сложные операции на позвоночнике – мои позвонки треснули, возможно, в результате лечения рака. Теперь моя тазовая кость соединена с позвоночником металлическими болтами. Последние годы были наполнены болью и чередой медицинских процедур. И все же, покидая больницу, я продолжал работать психоаналитиком. Из-за неопределенности медицинского прогноза мы с женой недавно переехали в дом престарелых. Но, несмотря на все это, мои мысли чаще были заняты не хрупкостью тела, а работой с аналитической психологией. Меня самого удивило, что мое сознание было погружено в нее больше, чем в мое собственное здоровье. Единственный вывод, к которому я прихожу: труды Карла Юнга и аналитическая психология продолжают питать, направлять и оживлять – по крайней мере, мою душу. Если бы это было не так, я, вероятно, собирал бы марки, вязал бы салфетки или уже давно был бы мертв.
Хотя это направление всегда оставалось на периферии современных психологических школ, меня никогда не тревожило, что аналитически ориентированных терапевтов так мало. Если мы следуем своему пути и помогаем пациентам – эта глубокая работа становится противовесом общепринятому подходу, в котором главным считается просто устранение симптомов. Но я убежден: за большинством психических расстройств стоит именно вопрос смысла. Когда человек теряет связь со своей душой, это порождает страдание, которое неизбежно разливается по миру: в отношениях, в судьбах детей, в ткани самой жизни.
Как указывал Юнг, невроз – это страдание, которое еще не обрело смысл. Он, конечно, не отрицает страдания, но напоминает: осознание смысла наших непростых путей помогает пережить тяжелые времена.
Юнгианская модель требует от человека многого, но и награда велика. Как я говорил своим пациентам, наша работа – не в том, чтобы «вылечить» вас, ведь вы не болезнь. Это – призыв к более глубокому диалогу, который сделает вашу жизнь интереснее и, возможно, приведет вас в духовные пространства, куда вы не планировали заглянуть, но каждое из них придаст вашему жизненному пути более насыщенный, глубокий тон.
Оглядываясь на начало своей карьеры, когда я был профессором гуманитарных наук, я начал преподавать Юнга, потому что считал его понимание природы символов проницательным. Когда психе «одарила» меня депрессией середины жизни и я впервые оказался на приеме у аналитика, что-то внутри меня вдруг поняло: все, что я знал о концепциях Юнга, было до обидного поверхностным. Пока эти идеи не воплотились в плоть, пока они не стали способом размышлять о жизни такой, какой она есть на самом деле, они оставались всего лишь тем, что Альфред Норт Уайтхед назвал «бескровным танцем категорий».
В рамках своей подготовки я три года работал на полставки в государственной психиатрической больнице. Меня закрепили за закрытым отделением, и мне велели всегда носить галстук, чтобы вечером охрана могла отличить меня от пациентов и выпустить из корпуса. Масштаб человеческих страданий, с которыми я там столкнулся, просочился во все слои моей собственной жизни. С детства, имея за плечами свои болезни, я жил в странной смеси восхищения и страха перед больницами. Старший врач, к которому меня прикрепили, однажды привел меня на вскрытие. Несколько дней после этого я не мог выбросить из головы это вздувшееся тело – и постепенно до меня дошло, что моя собственная психе каким-то образом разыграла это возвращение: снова привела меня туда, откуда я ускользнул в юности.
Когда я поделился этим с аналитиком в Цюрихе, он коротко заметил: «Когда справишься со своими страхами, страхи других людей перестанут пугать».
Вскоре после этого я помогал врачу зашивать лицо мужчине, которому в голову запустили стул. И я не мог не восхититься мудростью и автономностью психе, которая столь тонко, почти незаметно вернула меня в тот мир, откуда я некогда сбежал, выбрав заманчивое убежище ума. Как бы странно это ни звучало, моя психе искала исцеления, возвращая меня к месту травмы. Теперь я был достаточно взрослым, чтобы встретиться с этим напрямую и найти смысл там, где детское сознание могло найти только ужас. Мы знаем, что страх – это нормально. Но жизнь под властью страха – совсем другое. Сегодня я вижу ту стажировку как мое самое личное посвящение в целительные намерения психе.
Как и многие, кто проходил анализ, я учился прислушиваться к миру снов, к активному воображению и начинал задавать себе вопросы: «Какому внутреннему стремлению это служит?» Вопрос кажется простым, но именно с него начинается путь к глубинному исследованию. Проблема с бессознательным в том, что оно остается бессознательным.
Недавно, находясь в больнице, я услышал от медсестры вопрос о том, чем я занимаюсь. «Чем это отличается от обычной психологии?» – спросила она. «Ну, хотя бы тем, что мы пытаемся наладить диалог с бессознательным».
Она задумалась, а потом сказала: «Поняла. Вы работаете с людьми в коме». Чем больше я размышлял над ее словами, тем больше понимал, насколько они точны: ведь большую часть времени мы и сами находимся в измененном состоянии сознания. То есть нами движут страхи, мы отвечаем на вызовы жизни привычными, рефлекторными реакциями и, в большинстве случаев, не осознаем огромных психодрам, разыгрывающихся в глубинах нашей психики.
Среди всего этого шума мы интуитивно ощущаем, что у нас есть психе – нечто глубинное, знающее нас лучше, чем мы сами, нечто, что остается с нами на протяжении всего этого тернистого пути.
Последние полвека я посвятил тому, чтобы доносить идеи, установки и практики аналитической психологии до как можно большего числа людей – через преподавание, книги и работу в кабинете. Это сложно назвать просто работой – скорее это то, что принято называть «призванием». Если я нахожу в этом благо для себя, почему бы не поделиться им с другими? И я снова и снова вижу: многие люди испытывают глубокую жажду жизни психе и готовы пройти сквозь огонь перемен, чтобы открыть себя чему-то новому. Пусть популярная культура и предлагает бесконечный выбор развлечений, отвлекающих от жизни психе, есть немало тех, кто понимает: во всем этом блеске, эффектности и шуме недостает чего-то по-настоящему важного. За всей этой суетой, под гладкой поверхностью повседневности, в глубине, в психе каждого из нас что-то зовет, что-то звучит в напряженном ожидании. Пусть мы порой глушим этот призыв или просто не можем на него откликнуться, психе продолжает просить нас обратить на нее внимание. Эти призывы заявляют о себе через наши недомогания, сны и мучительные часы бессонницы.
В последующих главах я рассматриваю и подвергаю критике нашу одержимость поиском ответов во внешнем мире – например, стремление найти «рецепт счастья». Но даже тогда что-то внутри нас знает лучше и отказывается подчиняться. Я же хочу выделить на этих страницах инструменты, которые помогут нам вести более глубокий диалог с собственной душой. Исследуя, как коллективная культура влияет на нас – поддерживает ли наш путь или, что вероятнее, заглушает призыв души еще большим шумом, – мы можем начать расти, каждый в своем, но временами пересекающемся путешествии.
Среди всего этого шума мы, глубоко внутри, интуитивно знаем: у нас есть душа – нечто глубокое, знающее нас лучше, чем мы сами, сопровождающее нас в этом непростом пути и дарующее порой передышку, утешение и мудрое руководство в нашей жизни. Потеряв связь с этим внутренним источником, мы становимся заложниками множества адаптивных стратегий, которых требовало от нас детство и которые мы усвоили, – среди них подчинение, эмоциональное онемение и внешний шум, заглушающий внутренний голос.
Пусть эта книга станет для вас спутником, призывом, проводником и напоминанием о том, что мы носим в себе то, что так отчаянно ищем в этом безумном мире. Пусть она напомнит вам о том, что в детстве вы знали интуитивно, но забыли или отложили в сторону, когда мир со своими требованиями, призывами и вмешательством взял верх. Пусть эта книга станет другом, который готов идти рядом, пока ваша жизнь идет своим чередом. Пусть она вновь соединит вас с мудростью, которую почитали наши далекие предки. И пусть она дарует вам обновленную цель, осмысленность и самоуважение на этом таинственном пути, который мы называем жизнью.
Джеймс Холлис 2024 г.
Глава 1
Счастье. Найди то, что любишь, и позволь этому поглотить тебя
Наша задача в жизни – не в том, чтобы преуспеть, а в том, чтобы раз за разом терпеть неудачу с легким сердцем.
– Роберт Льюис СтивенсонВ стихотворении Джека Гилберта «Защитительная речь» рассказчик смотрит на мир, наполненный горем, насилием, голодом и одиночеством, – мир, в котором даже в самые мрачные часы есть передышка, всплески смеха, мгновения свободы человеческого духа[1]. Рассказчик говорит, что среди множества бед нам нужно осмелиться испытать радость, даже счастье, которое может вспыхнуть посреди «беспощадной топки мира». Гилберт завершает стихотворение призывом помнить те случайные светлые мгновения среди страданий, которые столь же реальны, столь же значимы, столь же определяющи на нашем пути, как и страдание. Даже в «беспощадной топке мира» есть место радости.
Эти строки написаны тем, кто понимает: если мы не ухватим этот момент передышки, утешения и обновления, он уже не повторится. Эта «жалкая щепотка глины, – как заметил шекспировский Ричард II, – что служит оболочкою костям»[2], действительно взята взаймы, и чем дольше мы живем, тем очевиднее становится, что наш кредитор хочет, чтобы мы вернули долг. На время этой краткосрочной ссуды, которую мы называем жизнью, нам велят быть счастливыми. Я, например, искренне старался достичь счастья и порой даже был охвачен им, но счастье не кажется мне настоящим смыслом или целью жизни. Поэтому мне приятно находиться в этом воображаемом пространстве вместе с вами и размышлять о неуловимом и мимолетном состоянии, которое мы называем «счастьем».
Как же эти две вещи могут быть истинны одновременно? Мы живем в «беспощадной топке мира», и в то же время нам велят быть счастливыми. Как сказала мне медсестра перед одной из недавних болезненных процедур: «Сейчас вспомните какой-нибудь счастливый момент». Я учтиво ответил: «Это и есть счастливый момент», – стараясь учитывать ее добрые намерения, я остался верен своему потрепанному, но реалистичному взгляду на мир. Мой ответ значил, что, испытывая боль, я при этом не забываю и о тех светлых часах, которые иногда дарит нам жизнь. И точно так же в моменты света я не забываю, что в это время кто-то где-то страдает.
Один из персонажей Сэмюэля Беккета, ожидая человека, который так и не приходит, замечает, что количество слез в мире остается неизменным: чтобы кто-то мог смеяться в одном месте, кто-то должен плакать в другом. Эта мысль может вас огорчить, но это чисто юнгианский вызов – удерживать напряжение противоположностей и признавать правду обеих сторон. Любая точка зрения, любая практика, которая защищает одну ценность за счет другой, в конечном итоге приводит к печальным последствиям.
Так что же это за вещь – счастье? Является ли счастье чем-то онтологическим? То есть существует ли оно само по себе в какой-то узнаваемой форме? Если у него есть какая-то онтическая форма, то можно ли назвать ее именем существительным? А если это существительное, то как оно выглядит? Прячется ли оно где-нибудь, например, в Южной Дакоте, и если мы достаточно сообразительны, сможем ли мы это выяснить и просто переехать туда? Мы, конечно, тратим немало времени, воображая, что счастье ждет нас в новом автомобиле, новом доме, новом партнере. Можно ли когда-нибудь найти беспроигрышный путь к счастью? И стоит ли вообще пытаться? Однажды писатель Гюстав Флобер пришел к следующему выводу: «Быть глупцом, эгоистом и иметь хорошее здоровье – вот три необходимых условия для счастья; но если у тебя нет первого, все пропало»[3].
Последнее, чего бы мне хотелось, – чтобы меня запомнили как человека, выступающего против счастья, так что мне лучше объясниться. Я искренне желаю счастья вам, себе, своим детям и всем детям, что ходят по этой планете. Но я научился не затаивать дыхание в ожидании, что я, они – мы однажды доберемся до некоего устойчивого состояния под названием «счастье» и будем в нем пребывать, пока занавес не опустится в последней сцене той фальшивой мелодрамы, которую мы разыгрываем на сцене истории уже не первое бурное столетие.
Некоторые люди несчастны уже оттого, что не могут быть довольны жизнью постоянно. Часто те, кто пользуется социальными сетями, видят, какими радостными кажутся другие, и в сравнении с ними начинают чувствовать себя несчастными, наблюдая, как их друзья наслаждаются жизнью – с чудесными детьми и яркими моментами единения. Немногие выкладывают в интернет другую сторону своей истории, и поэтому нам кажется, что они преуспели в этой игре под названием «счастье», а мы – нет.
Позвольте мне показать вам фотографию одного малыша, который кажется вполне счастливым[4]. Этот ребенок улыбается, выглядит абсолютно довольным и умиротворенным. Разве он не блаженствует? Разве не находится он на вершине счастья? Он спокоен и даже не подозревает, что на него надвигается – словно поезд, вышедший из Ньюарка в 06.45 и несущийся со скоростью 86,4 мили в час, – череда неприятностей. Поскольку он еще не посещал уроки математики, которые помогли бы вычислить, когда именно этот поезд прибудет к его двери, мы позволим ему оставаться беспечным как стрекоза. Но, насколько нам известно, стрекозы не отличаются особо высоким уровнем сознания. Именно сознание и наша способность воображать разные версии реальности делают наши тревожные часы такими мучительными. В стихотворении Флер Эдкок «Вещи» рассказчица просыпается среди ночи и оказывается окруженной всеми «вещами», которые вызывают у нее беспокойство. Но сколько бы она ни пыталась отогнать гнетущие мысли, порождающие вину, тревогу и страх, все, что ее беспокоит, собирается у ее постели, сгущается и становится все тяжелее и тяжелее[5]. Узнаете в этом описании тени, которые так любят приходить в призрачные часы предрассветной тишины?
Но как часто мы задаем себе вопрос: а должны ли мы быть счастливы? Если мне предназначено быть счастливым, но я не счастлив – значит ли это, что со мной что-то не так? Для большинства живых существ счастье не кажется чем-то значимым. Им достаточно найти место для сна, защиту от хищников и пищу, чтобы утолить инстинктивные потребности. Но человек остается пленником своей растерянности, тревоги и замешательства перед всей этой жизненной неразберихой.
Когда я учился в Швейцарии, мне удалось снять комнату у адвоката и использовать ее как кабинет, пока тот был на работе. Однажды он вернулся раньше и застал плачущего пациента. Позже он спросил меня, зачем мне вообще проводить время с теми, кто плачет. Я не стал рассказывать ему, как во время интернатуры в психиатрической больнице меня пригласили на вскрытие. Это не доставило мне удовольствия, но мне было интересно узнать больше о том, как устроено тело и как проводится аутопсия. Кажется, я все же сказал ему, что я был рад и польщен оказанной мне честью – присутствовать при чужих страданиях, но, думаю, он этого не понял, и поэтому наш разговор намеренно скатился в пустую болтовню.
Моя мысль в том, что, возможно, жизнь лишена смысла, но мы – существа, жаждущие смысла, движимые стремлением понять ее. А когда это оказывается невозможным, мы хотя бы пытаемся выстроить с жизнью осмысленные отношения. Мы знаем из архетипической психологии, из глубинного опыта первобытных религиозных переживаний, из квантовой физики и из взгляда художника на мир, что в своей основе все есть энергия. Материя – это всего лишь временная форма, в которую эта энергия складывается. (Как говорил Пьер Тейяр де Шарден, материя – это дух, замедлившийся настолько, что его можно увидеть.) Очевидно, религиозный символ или молитва, произведение искусства или любая выразительная практика способны воздействовать на психе, перенаправляя застрявшую, омертвевшую или отщепленную энергию. Смысл делает жизнь выносимой – это и есть тот дар, который дает нам возможность быть здесь, в этой «беспощадной топке мира». Как однажды заметил жизнерадостный филолог из Базеля, Фридрих Ницше, тот, у кого есть «зачем», выдержит любое «как».
Но, по-видимому, концепция счастья обладает высокой рыночной ценностью. Никогда не увидишь мрачную семью, уезжающую на новой «Тойоте». Во время рекламных пауз телевикторины можно узнать обо всех новых страшных болезнях, поджидающих стариков, и о чудесно названных препаратах, дозировка которых точно рассчитана для излечения, но заодно предполагает целый список побочных эффектов, прочитываемых диктором со скоростью скорострельного пулемета. А еще у нас есть позитивная психология, призванная пропагандировать правильное мышление и правильное поведение. Появление этого модного подхода к жизни особенно характерно для американского менталитета. Американская установка «Я могу» в сочетании с целеустремленными, энергичными усилиями якобы приносит счастье и чувство благополучия. Однако брат наш Иов, живший две с половиной тысячи лет назад, был первым позитивным психологом, который полагал, что правильные мысли и правильные поступки ведут к изобилию и процветанию. (Не буду напоминать, что с ним случилось.)
Один из самых популярных курсов в одном из престижных университетов США – «Наука о счастье», который ведет доктор Лори Сантос; курс «раскрывает заблуждения о счастье, раздражающих особенностях нашего ума, которые заставляют нас думать так, как мы думаем, а также исследования, способные помочь нам изменить это» Студенту предлагается внедрять новые модели поведения и ожидать новых результатов. Неудивительно, что этот курс так популярен среди несчастных студентов, которые убеждены, что могут не только решить конкретную проблему, но и исправить все проблемы общества.