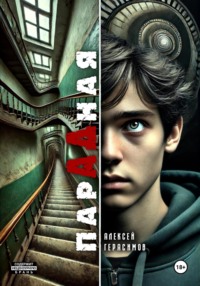Полная версия

Серый снег
Пролог
20:13
Снег не просто валил – он давил плотной, тяжёлой, мокрой мукой. Небо словно решило испечь гигантскую безжизненную коврижку. Из серого месива выпирала чёлка тайги – угрюмая, непроходимая, как стена забвения. Старый «Буран» вгрызался в неё, дребезжа изношенными «костями». Каждая кочка на снежных ухабах отдавалась в позвоночниках братьев Чуприных – Кости и Паши. Два мужика с лицами, изъеденными не столько морозом, сколько метиловым румянцем безысходности и боярышника. Под пуховиком у старшего – алюминиевая фляга с последними глотками огуречного спирта. У Кости обрез – ИЖ-18. Остатки пропитого позора. Их дед, Макар Иванович Чуприн, пытался вылепить из оболтусов, погодок погибшей дочери, настоящих людей. Но посёлок с его пьяным укладом и голодная пасть лихих девяностых, вцепившаяся в горло всей стране, сделали своё чёрное дело. На воспитательном пути обоих возник тюремный срок за угон колхозного трактора. С нар братья вернулись уже в пустой дом. Единственный предок упорными стараниями рака лёгких перебрался на погост, оставив в наследство скудный счёт в Сбербанке и безграничную, пугающую свободу. Свободу падать туда, откуда не выбираются.
За «Бураном» на промасленной ленте скользил самодельный прицеп. Уродливый гибрид из дверей старого купе и двух детских саней, похожий на катафалк для бедных. На носу саней привязана старая бочка. Для крови.
– Поддай газку, тормоз! – проорал Паша. Его голос, заглушённый мутным визором мотоциклетного шлема брата, прозвучал словно крик из-под воды.
– Запороть движок хочешь, придурок? – огрызнулся Костя, но рука, будто сама по себе, выкрутила ручку газа.
Рёв мотора полоснул зимнюю тьму, как нож – гниющее брюхо туши. Просека неумолимо сужалась. Снег становился всё глубже, а знакомая колея виднелась лишь бледными шрамами под белым саваном. И вот, между елей, чернеющих, как окаменевшие стражи, зевнула прогалина. Болото и торфяной ручей. Тёплый, жирный, дышащий паром даже в крещенскую стужу. В жёлтом свете налобных фонарей на тёмном льду качались пузырьки газа, точно живые глазки смотрят из-под воды.
– Теплушка, мать её… – ухмыльнулся Костя, глуша движок. Звук умер и сразу же навалилась тишина, тяжёлая и звенящая. Если кабан где-то рядом, то он… сюда точно ходит пить.
Свет фары снегохода пробил туман. Пар казался не просто тёплым. Он был живой, плотный, с приторно-сладковатой вонью тухлых орехов и чего-то старого и заплесневелого. Братья стянули перчатки. Воздух лип к пальцам ледяным клеем, но пара глотков спирта разлила по жилам жгучий ложный жар.

Первым движением была не ветка. Первым движением стала Тишина. Такая внезапная. Такая абсолютная, что резала уши. Лес словно замер. Не затаился – замер. Фонарь Кости «стрельнул» в сторону огромной сосны. Чёрные туши. Семейство кабанов. Большой секач с клыками-кинжалами, две свиноматки, четверо подсвинков. Стоят полукругом. Неподвижно. Глаза – тусклые, мутные шарики, засаженные в плоть, как лампочки в патроны дешёвого ночника. Смотрят на них не мигая.
– Ёба… – выдохнул Паша, и его шёпот прозвучал оглушительно в мёртвой тишине. – Чего это они замерли? Чё не бегут?
Костя медленно, с характерным щелчком переключения предохранителя поднял обрез. Прицелился в грудь секача. Животные даже не вздрогнули. Только пар из ноздрей – сизый, густой, как дымок из трубы крематория. Самый мелкий подсвинок вдруг сделал шаг вперёд. Медленно, неуклюже, как старик с больными суставами. И сел. Прямо на зад, завалившись чуть набок. Беззвучно. Как будто кто-то нажал на кнопку «выключить».
БАХ! Оглушительный выстрел обреза разорвал немоту. Картечь ударила секачу в грудь. И снова… ни визга, ни рёва. Только глухой, влажный ЧАВК! Звук, как если бы молотком врезали по тазу́, полному влажного белья. Огромная туша просто осела, как подкошенная. Остальные животные даже не вздрогнули.
Паша с перекошенным от удивления лицом выхватил обрез из рук брата, перезарядил дражайшей рукой и выстрелил в ближайшую свинью. Та рухнула, как марионетка, у которой перерезали все нитки разом. И только тогда остальные кабаны сдвинулись. Но… не бросились врассыпную в панике. Нет. Они медленно отошли метров на пять и снова замерли. Стоят. Как солдаты по команде «смирно». Неестественно. Пугающе. По-человечески.
– Они что… сдохлые изнутри? – голос Паши дрожал, рука судорожно тёрла визор шлема, оставляя грязные разводы.
– Дичь есть дичь, брат… – пробурчал Костя, доставая из-за голенища длинный и засаленный разделочный нож. Голос младшего был глухим и липким. От охотничьего азарта в нём не осталось ни следа.
Над тушами повис пороховой дух, но его быстро перебил другой запах. Сладковатый. Удушливый. Словно тухлая смородина, смешанная с дешёвым ванильным дезодорантом и… чем-то ещё. Чем-то глубоко прогорклым. Ножи вошли под лопатку с пугающей, почти неприличной лёгкостью. Из ран вместе с кровью повалил пар.
– Костян! Смотри! Кровь-то не чёрная! – Паша ткнул пальцем в снег. На белоснежном полотне растекалась розоватая жижа, пузырящаяся, как детский шампунь. Старший сморщился. Из развороченной дробью груди свиньи вытекала пенистая, шипящая… субстанция. Термин кровь к ней максимально не подходил. Совсем как газировка. Только тёплая. И пахнущая. Что смогли – слили в бочку… для кровяной колбасы сгодится.
Костя, игнорируя странности, спешно копнул ножом вглубь, к печени. Ткань была не упругая, а мягкая, рыхлая. Нож проваливался, как в мокрый пенопласт. На ладонях оставались вздутые коричневатые пятна. Он провёл пальцем по поверхности печени, сдирая тонкую и сухую плёночку – точь-в-точь карамельную корочку. И вдруг… печень чуть шевельнулась. Еле заметно. Будто вздохнула. Или собралась вздохнуть. «Показалось?» – мелькнуло в голове ледяным уколом страха. Костя отдёрнул руку, как от огня, и злобно плюнул на снег. Слюна тут же застыла жёлтой ледышкой.
– В морозе дотянет… – прохрипел он больше для себя. – Главное, чтоб не стухло. Диких пёрли… месяц назад? Всё окей было.
Паша, избавляясь от внутренностей, резко дёрнул ножом, распоров собственную ладонь. Человеческая кровь, тёмная и густая, потекла прямо в зияющую брюшную полость поверженного кабана, сопровождаемая цепочкой матерных проклятий. Старший Чуприн вытер рану о грязный брезент на прицепе. На мгновение ему показалось, что что-то тёплое, шершавое, как кошачий язык, лизануло порез. Он встряхнул руку, как от ожога.
– Мерещится, блядь… – пробормотал он, глотая комок страха.
21:36
«Буран» с рёвом рванул с места, выворачивая на просеку. За потяжелевшими санями потянулась чёрная вязкая полоса. Снег под ней шипел и плавился, оставляя продолговатые лунки-язвы. В трещинах зеркала заднего вида Костя увидел… Нет, почудилось ему, что в этих лунках что-то пузырится. Кипит. Чёрное. Он моргнул: виде́ние исчезло. Остался только пар, клубящийся над кровавым следом. Как дым над перегонным кубом самогонного аппарата, варящего нечисть.
На дверях-санях туши лежали грузно. Открытые глаза добычи смотрели в небо. Стеклянные. Молочно-голубые. Зрачки размытые, как у мертвецов. Ветер поднялся, завывая в уши, и Косте снова почудилось, что эти мутные глаза… повернулись. Следят за ним.
Пашка грубо ткнул его в бок:
– Газуй уже, тормоз! Сдадим мясо Гальке, бухнём и забудем, как страшный сон…
«Буран» сорвался с пригорка. На секунду – невесомость, короткий полёт над ручьём. Из саней выпал кровавый, смёрзшийся комок кишок или печени. Бульк – и исчез в придорожной канаве, заполненной чёрной жижей. Тихо, почти неслышно, над водой раздался хлопок, точь-в-точь как лопнувшая лампочка. Из упавшего комка вырвалось синеватое, ослепительно-яркое, как электросварка, пламя. Оно пылало секунду, холодное, бездымное, неестественное, и погасло.
Братья, предвкушающие хруст купюр, не заметили. Мотор орал, заглушая мир. А снег за санями, подтаивая от тёплой жижи, покрывался тончайшей паутинкой бордовых трещин. Как стекло, готовое разлететься.
22:04
Окрестности у продовольственной лавки в Чурилово были не просто тёмными – они были глухими. Как будто кто-то выключил жизнь во вселенной, кроме этого проклятого пятачка. Жёлтая вывеска «Продукты и Мясо» дёргалась на ветру. Лампа внутри мигала с упорством умирающей бабочки, бившейся о стекло. То ли пыталась перегореть, то ли боялась погаснуть навсегда.
Галина Павловна Кондратьева вышла на крыльцо, кутаясь в старую ватную шаль, пропитанную запахом дешёвого кофе и безнадёги. На лице тридцати девятилетней женщины уставшая смета житейских проблем. Зима давит, поставки задерживаются, а завтра проверка из райцентра. Эта новость висела над владелицей лавки, как дамоклов меч. Тупой, ржавый, готовый рухнуть в любую секунду и окончательно разрубить её хлипкий мирок вдребезги.
– Галя-а-а! – донёсся из мрака хриплый вопль. Костя, согнувшись под нечеловеческой тяжестью, волочил за ногу полутушу кабана. – Зацени! Дикий! Полсотки весу, не меньше! На колбасу пустишь, озолотишься, Галюнчик! По-братски отдадим. У тебя неделю пауки на пустой витрине полушубок плетут.
Женщина медленно сошла со скрипучей ступеньки, направив луч фонарика на тушу. Свет в замёрзших пальцах дрожал. Ноздри нервно дёрнулись, запах… странный. Не просто дичь. Что-то сладковатое, прогорклое, забивающее даже лютый мороз в минус двадцать. Но тот же мороз сегодня был её единственным союзником. Мясо казалось дубовым, словно скала.
Луч скользнул по замёрзшей крови на шкуре. Галина увидела. Кровь не просто замёрзла. Она срослась. Образовала причудливые, острые кристаллы, переплетённые, как сахарная нить в прошлогоднем меду. Только цвет был не янтарный, а грязно-розовый… больной. Фонарь отразился от странного крошева. Мириады малиновых игл, тонких, как волос, осыпавшихся со шкуры и лежащих на снегу неестественно ярким ковром.
– А… а бумаги на груз? – выдохнула она, и голос её прозвучал чужой, тонкой струйкой пара.
– Бумаги – завтра, Галь. Не ссы! – Костя махнул свободной рукой. – Сейчас главное, чтоб не оттаяло!
Паша возник чуть позади брата, судорожно засунув окровавленную ладонь глубоко в карман. Там, под застывшей коркой, кровь зудела. Он чувствовал это. Чувствовал, как что-то в глубине раны ворочается. Мелко, назойливо.
Галина молниеносно прикинула: ревизия на носу, витрины пусты, как черепные коробки, народ злой, требует мяса… Нужно. Очень нужно. Сердце сжалось ледяным комом предчувствия, но она кивнула, коротко, резко. Не давая само́й себе шанса найти веский повод для отказа:
– Тащите. В морозилку. Быстро.
Костя стремительно рванул в сторону «Бурана». Старый снегоход, прочихавшись, взревел и потащил окровавленные сани к чёрному обшарпанному боковому входу. Туда, куда летом сгружали мешки с мукой и ящики с шипящим от жары квасом.
Когда братья скрылись в темноте за углом, Галина осталась одна. Тишина навалилась снова, тяжёлая, звенящая. И вдруг… что-то послышалось. Не звук заглушённого мотора. Не скрип векового каштана на морозе. Что-то среднее между шёпотом и бульканьем. Словно кто-то пытался говорить под водой.
Она опустила фонарь. Луч упал на колею от саней. Там, где пролилась та странная розовая жижа, снег… проплавлялся. Образовывались идеальные кружки, как от капель горячего чёрного кофе. Края их были чёрными, обугленными.
Женщина моргнула, резко, будто пытаясь стереть картинку. Мороз. Мороз всё выжжет. Как всегда выжигал. Но сердце, прожжённое горьким опытом, вонзило в грудь тонкую ледяную иглу паники. Что-то здесь было не так. Совсем не так. Её передёрнуло. Галина куталась в шаль так плотно, что костяшки пальцев побелели, и почти побежала обратно, в лавку. Она не заметила, как к подошве валенка прилип тонкий, липкий, жёлтый налёт. Первый, незаметный спороносный кусочек того кошмара, что только начинал прорастать.
Чуприны впихнули сани в узкий проулок у чёрного хода. Костя, пытаясь осветить площадку, поддал газу. Фара «Бурана» выплюнула жёлтый дрожащий сноп света, выхватив из тьмы ржавый металлический настил и запертую на амбарный замок дверь подсобного помещения. От выхлопа над снегом поднялись ленточки пара, извивающиеся, как черви в дыхании невидимого великана.
Паша, кряхтя, ухватил за копыто первую полутушу. Шкура, покрытая инеем, треснула с сухим звуком, похожим на ломающиеся кости. Из-под лопатки, точно из крошечного фонтанчика, брызнула тонкая струйка тёплой розоватой влаги. Она попала ему на рукав, оставляя тёмное пятно.
– Тьфу! – Паша скинул тушу на укатанный шинами снег. Сани отозвались высоко, жалобно, как задавленная кошка. Там, где мясо коснулось льда, тут же вспухло тёмное масляное пятно. Похожее на нефть. Только пахло оно… ванильной гнилью.
– Не роняй на землю, криворукий! – шипящим шёпотом вырвалось у Галины, открывшей дверь. Обычно внимательные, цепкие глаза хозяйки магазина скользили мимо туш. Они были прикованы к снегу под санями. Там, в свете фары, уже начинало булькать. Пузырились чёрные лужицы тёплой крови, смешиваясь со снегом и издавая тот самый услышанный ею странный шёпот.
Костя охнул, глядя на штанину: ткань на колене, пропитавшись вытекшей из саней жижей, моментально обледенела, стала хрупкой и лопнула бахромой. Он машинально облизнул пересохшие губы. Привкус был… сладкий. Как заветренный леденец, который он сосал в детстве, найденный с братом бог знает где.
Галина, стиснув зубы, отбросила промасленный брезент, прикрывавший дверь морозилки, и рванула на себя тяжёлую, обитую железом дверь. Оттуда дохнуло. Не просто холодом. Ядрёным, обжигающим лицо минусом двадцать четыре и… солёной вечностью. Запахом бесконечности, где время остановилось и даже смерть замерла в ожидании.
По уму, мясо надо было бы взвесить, записать в тетрадку, проштамповать накладную, отправить на экспертизу… но Галина отчаянно махнула рукой:
– К утру проставлю печати и наклеим ярлыки! Тащите! Быстрее!
Полутуши, скользкие от инея и тёплой слизи, подвесили на массивные кривые мясные крюки, торчащие из-под потолка камеры, как пальцы скелета. Металл царапнул за ребро туши, и в этот момент Косте почудилось… нет, он увидел, как огромный кусок мяса на крюке едва заметно дрогнул. Не от толчка. Не от холода. А сам по себе. Как будто его тронули изнутри.
«Бухнул лишнего…» – пронеслось в голове, но оправдание было тонким, как паутинка. Он поспешно отшатнулся к двери, повернувшись спиной к страшной камере.
Паша стоял у стены, лихорадочно поливая свою распоротую ладонь прямо из фляги остатками спирта. Рана под застывшей кровью мучительно пульсировала, как если бы под кожей билось второе, но крошечное сердце. Алкоголь притуплял боль, но не мог заглушить это жужжащее живое ощущение. В жёлтом свете налобного фонаря рана выглядела как ложка клубничного джема – яркая, липкая, неестественная. Он ткнул в неё спрессованным снегом. Тот не просто таял, он шипел и пузырился, оставляя на коже липкий коричневатый след, похожий на солидол.
– До утра отпустит… – буркнул он, не особо веря собственным словам, и начал судорожно заматывать руку грязной тряпкой.
Галина с силой захлопнула тяжёлую дверь. Хлопок прокатился по пустым полкам эхом похоронного звона. Взгляд женщины машинально скользнул по старому термометру, вмурованному в дверь: минус двадцать сем градусов по Цельсию. Но почему-то на лбу у неё выступила испарина.
Чуприны, потирая руки (Паша – здоровую, Костя – чтобы согреться), под фонарём пересчитывали смятые и засаленные сотенные купюры. Бумага была липкой. Как будто её облили патокой.
Галина отсчитала две тысячи и выдала две бутылки самой дешёвой водки, что хранила в качестве жидкой валюты. Задаток.
– Остальное… после ревизии, – сказала она, избегая взгляда братьев. Глаза её были прикованы к тёмной полосе под дверью морозилки. Оттуда сквозь щель медленно выползала тонкая струйка пара. Тёплого.
– Кровь с «Бурана» сотрите, как обратно поедете, – добавила она шёпотом, посмотрев в сторону дороги. – ДПС нынче злое, как черти…
Костя хотел пошутить про чертей, но во рту пересохло так, что язык прилип к нёбу. Он попытался сглотнуть и почувствовал, как по горлу скатился горячий плотный шарик. Как будто проглотил кусочек раскалённого угля.
«Буран» чихнул чёрным дымом, рванул с места и унёс Чуприных обратно в таёжную темень. Двор лавки погрузился в привычную немоту. Галина замерла посреди этой тишины, вслушиваясь. Несмотря на полную звукоизоляцию толстостенного промышленного морозильника, отчётливо до слуха доносилось… кап… кап… кап… Тёплая кровь. Стекающая в железный лоток под крючьями с тушами. Звук был размеренным. Неумолимым. Как тиканье часов на руке покойника.
Она вернулась в здание и резко, почти истерично, щёлкнула выключателем у входа. Дешёвая люминесцентная лампа над прилавком вспыхнула липким, больным, жёлтым светом. Около двери морозилки, расползаясь по бетонному полу, дышало тонкое парящее розоватое пятно.
– Вот же уроды… Кровь до конца не спустили… – прошептала Галина, и голос сорвался. Однако, вместо того чтобы проверить, она повернулась спиной к пятну, к двери, к каплям… к проблемам и пошла к кассе. Считать выручку. Потому что завтра – ревизия. А ревизоры не любят пустых витрин и беспорядка в отчётности. Этот мир, её мир, держался на бумажках и цифрах. Всё остальное… было просто сопутствующим кошмаром. А кошмары, как всем известно, к утру проходят.
«Не правда ли?» – ехидно шепнуло подсознание, пока она открывала лоток с дневной выручкой.
00:10
Старый снегоход плыл сквозь таёжную темень пожилым китом по белой воде. Он проковылял по прогону к трухлявому мостику, ведущему на заброшенную лесобазу. В последние годы братья предпочитали проворачивать свои делишки там. Костя играл фарой: включал – выключал. Жёлтый луч на секунду выхватывал из мрака костистые руки лысых берёз, затем снова погружал мир в черноту. Экономия бензина. Последние капли жизни. В мотоциклетном шлеме царила звенящая пустота, заполненная рёвом движка, свистом ветра и… нарастающими стонами сзади.
Паша корчился. Его рука пылала под импровизированной повязкой, будто кто-то оставил в ране тлеющий уголёк. Он размотал шарф. В тусклом свете кожа вокруг пореза вздулась сиреневой розочкой, огромной, мерзкой, как обморожение третьей степени. Но это не было следствием холода. Сама рана сочилась странной водянисто-красной слизью, похожей на разбавленный томатный суп из консервной банки с истекшим сроком годности.
– Дай спирту… – прошипел Паша, его голос был хриплым, чужим. Костя не глядя протянул флягу через плечо. Паша схватил и припал к горлышку, жадно глотая. Подавился, спирт обжёг глотку, но это был единственный огонь, способный хоть на миг затмить адское жжение в руке. В этот момент «Буран» толкнуло – гусеница зацепилась за скрытую под снегом корягу.
Снегоход подпрыгнул и замер. За ним встали сани. Из горловины наполовину заполненной бочки выплеснулся багровый веер из брызг. Он попал Паше прямо за шиворот и на шлем. Тепло! Чужая кровь опалила кожу. На секунду мир перед глазами затянуло красным занавесом. Он зажмурился и… увидел. Кабан. Тот самый огромный секач. Стоит в метре от «Бурана». Уши опущены. Клыки наружу. И он… улыбается? Оскал мёртвой плоти, полный немого обещания. Паша вскрикнул, дико, по-звериному, и распахнул глаза.
Темнота. Никакого кабана.
– Хватит жрать спирт, дебил! – рявкнул Костя. Младший брат рванул газ. «Буран» с хрустом вырвался из плена коряги. Сзади, в бочке, тихо булькнуло. Из её горловины медленно поднялся белый пузырь размером с кулак. Он повисел в воздухе, как призрак, затем лопнул с едва слышным хлюпом. Пар из пузыря повис на мгновение, словно задумавшись, а затем поплыл следом за удаляющимся «Бураном», как хвост призрачной кометы, быстро растворяясь в ледяной темноте.
Избушка на краю просеки встретила их запахами: плесенью, въевшейся в брёвна; старым самогоном, пролитым на пол; разлитой соляркой, горькой и едкой. Запахами дома. Костя, кряхтя, сбросил оставленную для пропитания полутушу с саней прямо под окна. Он накрыл её грязным брезентом – не столько от волков, сколько чтобы не видеть этих стеклянных молочно-голубых глаз, которые мерещились в темноте.
«До утра…» – подумал он, но мысль тут же оборвалась.
Паша рухнул на жестяную раскладушку. Дрожь лихорадки сотрясала тело, сгущая воздух в избе до состояния киселя. На покрасневшем лице и шее выступила испарина – густая, липкая, как будто он только что пробежал марафон. При этом тело под промокшей телогрейкой оставалось ледяным на ощупь. Парадокс боли.
Костя, бормоча что-то под нос, поставил закопчённый чайник на печурку-буржуйку. Из фляги вылил последние капли огуречного спирта в металлическое нутро. Пламя стремительно загудело и тут же воздух в избе наполнился сладковато-кислым запахом. Не дымом сырых поленьев. Нет. Это был отчётливый, жирный, тошнотворный аромат разогретого сала. Свежего. Горячего. Идущего словно из ниоткуда.
Паша рванул ворот телогрейки, пытаясь вдохнуть спёртый холодный воздух. Из-под воротника повалил густой пар, как из котла. Снаружи скрипнула доска крыльца. Лиса? Ветер? Но Паше послышалось другое: чир… чир… Медленно, с отвратительным, наслаждающимся скрежетом. Будто кто-то огромный и злой ковыряет клыком об промёрзшую землю.
– Костян… – прохрипел Паша. Его глаза, лихорадочно блестящие, были прикованы к запертой двери, – там кто-то есть! Слышь?
Брат, стиснув зубы, подошёл к двери и резко распахнул. Тёмная просека была пуста. Только снег, искрящийся под низкой кровавой луной, которая только-только выползла из-за чёрных сосен. От снега поднимался пар – густой, белый, как из гигантских варочных чанов. Костя закрыл дверь и запер щеколду. В этот момент скрип повторился. Прямо за дверью. Глубокий. Длинный. Царапающий. Как если бы когти медленно провели по деревянной обшивке.
Паша впал в горячечный бред. Ему снились кабаны. Они стояли в снегу, неподвижные, как статуи. А из глаз вместо слёз сочилась молочная кровь. И вдруг шкура с животных начала опадать. Показались лица. Лица братьев Чуприных. Его лицо. Лицо Кости. Но туловища оставались звериными – шерсть, клыки, копыта. Они смотрели на него своими мёртвыми стеклянными глазами…
Он дёрнулся, проснувшись с ощущением, что его душат. Во рту вкус ржавчины, густой и металлический. На губах засохла черноватая корка. В носу нестерпимый зуд, точно там копошатся черви. Рука… рука пылала. Опухоль багряным, синюшным волдырём раздулась от запястья почти до локтя. Ему было адски жарко, как в бане, но каждый выдох вырывался изо рта густым ледяным паром, словно он наглотался сухого льда.
Костя сидел у стола, уставившись в тусклое окно, за которым виднелся контур тайги. Он не пил. Просто сидел. Снова послышался скрип. Теперь отчётливее. Не царапанье по двери, а хруст. Он хотел было подняться, проверить, но ноги будто налились свинцом. От страха? Или что-то другое?
– Спи… – сказал он Паше, заметив, что брат открыл глаза. Голос был глухим и безжизненным.
Но сон к старшему не пришёл. Сквозь широкие щели в рассохшихся досках пола вдруг потянуло тёплым смрадом. Пахло варёной капустой и тухлым яйцом, сдобренным жидкой плесенью, которая щекотала ноздри и вызывала приступы тошноты. Паша согнулся пополам. Изо рта брызнула тёмная рвота – густой, почти чёрной массой. Она размазалась о промёрзший пол и зашипела, как сода, залитая уксусом. Поднялось облачко едкого пара.
Костя вскрикнул, инстинктивно рванув на помощь. И вдруг понял. Тёплый вонючий туман валил не только из-под пола. Его основной поток шёл из-под двери, из щели на пороге, прямо от того места, где лежала часть туши под брезентом. Он протянул руку к двери. Дерево было не холодным. Оно было влажным. И тёплым. Как ткань живого, но крайне больного тела.
02:10
Небо над избушкой посветлело. Низкая, огромная, как переспелая лопнувшая смородина, луна вылезла из-за чёрных сосен. Багровый свет залил двор. Сани с брезентом выглядели как огромное блюдо, полное сырого тёмного мяса, выставленное на пир для незваных гостей.
Дверь избы дрожала. Не от ветра. Паша стонал на раскладушке, его стоны превратились в булькающее хрипение. Костя, сидя у стола, лихорадочно пытался вспомнить слова молитвы. Хоть Отче наш, хоть что-то, хотя реально не молился в церкви ни разу в жизни. Слова путались, превращаясь в бессмыслицу. Его взгляд упал на обрез, прислонённый к печке. Ружьё! Он потянулся к нему. Но пальцы… Кожа на них потрескалась, как старый лак на картине, обнажая розоватую мокнущую плоть. Больно! Рукоять ружья в его затуманенном желеобразном взгляде словно плыла, расплывалась, ускользала.
Снаружи скрип повторился. Громче. И вдруг – выбухнула доска на крыльце! Костя затаил дыхание, сердце колотилось как бешеное. В наступившей тиши, звенящей после взрыва доски, он услышал… хлюп. Отчётливый, влажный, мерзкий звук. Точь-в-точь как когда выдёргиваешь сапог из глубокой засасывающей трясины.