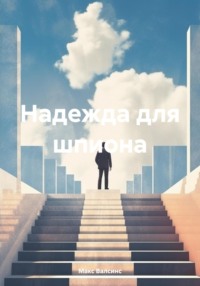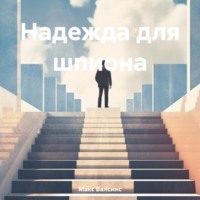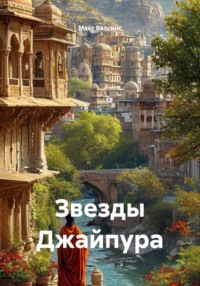Полная версия
50 грамм справедливости

Макс Валсинс
50 грамм справедливости
Рождение героя
1
Олави Виртанен появился на свет в январе 1893 под хриплый гудок фабричной сирены. Тампере был городом двух звуков: шума порогов Таммеркоски и дробного тиканья прядильных машин на «Финлейсоне». Именно там работал его отец— Антти Виртанен.
Антти не был трезвенником – частенько после смены он заходил в рабочий «Кулма-баари», заказывал несколько рюмок водки или пару стаканов пива, но никогда больше. Ему было важно общение, а не спирт. Он и сыну своему постоянно повторял, какзаклинание: «Пьянка ещё никого до добра не довела».
– А ты зачем тогда пьёшь, папа? – спрашивал маленький Олави
– Капелька водки в кофе – не выпивка, а лекарство, сынок. Знай меру, и бутылка не будет командовать тобой.
Антти знал меру – и благодаря этому дослужился до бригадира: без прогулов, без дебошей, всегда чисто выбритый и без махрового перегара, с твердой рукой, которая никогда не тряслась. Начальство ему доверяло, коллеги – уважали: да, скучный, но все равно и рюмку пропустит, и анекдот смешной расскажет. Книжки только читать любил, в этом вот он отличался от большинства рабочих.
Каждое первое число месяца Антти подходил к кассе почтового отделения и аккуратно выкладывал несколько марок за Aamulehti и толстый иллюстрированный Suomen Kuvalehti. Когда кассир однажды пошутила: «Можно бы и бутылку взять за такие деньги», – он за словом в карман не полез, а сразу пошутил в ответ:
– А мне бутылка – много. Я только чтобы печень пощекотать!
Газеты дома читали вслух. По вечерам Антти надевал очки-половинки, и в кухне загорался ещё один огонёк: коптилка над столом и мерцающая новость над страницей. Олави сидел рядом, ловя редкие слова про политику, афиши столичных театров, объявления пароходных линий. Он запоминал названия океанов так же легко, как марки спиртного. Понимая, что ткань и станки дают хлеб, но не дают выхода из цеха, Антти поставил цель: сын уйдёт к бумагам, а не к приводным ремням, поэтому в восемь лет Олави уже считал на счётной доске усерднее, чем некоторые учили таблицу умножения, а в десять – решал дроби, выписывая результаты мелом на двери сарая. Антти радовался, хоть и не подавал виду.
Так и вышло: когда в августе 1914 года Европа загрохотала, как пустая бочка, полная пороха, Олави, молодой и практически непьющий мужчина 21 года от роду, встретил это событие за пыльными документами текстильной лавки на Кауппакату, торгуя тем, что производила фабрика, на которой работал его отец. Ему ничего не угрожало – жизнь текла своим чередом: подданных Великого княжества финляндского мобилизация в царской России не коснулась.
Ну как не коснулась? Олави не носил форму, не стрелял, был сам себе хозяин (в гражданском смысле), но война все равно присутствовала даже в скучном фабричном Тампере: даже невидимая, даже далекая, она все равно просачивалась в повседневность – как холодный осенний ветер сквозь щели в старых деревянных домах, она приходила в газетных заголовках, в тревожных взглядах покупателей, в том, как цены на товары медленно, но неумолимо ползли вверх. Иногда, сидя за конторкой, Олави вдруг замирал, представляя, где сейчас его ровесники – может, замерзают в Карпатах или гниют в сырых траншеях под Верденом.
По вечерам Олави подолгу смотрел в окно. Город жил прежней жизнью: фабричные гудки, смешанный говор финского и шведского, запах дыма из труб. Но что-то изменилось. В кафе теперь чаще говорили о войне, газеты продавались быстрее, а в церквях молились не только за своих, но и за чужих. Даже воздух, казалось, стал тяжелее – будто наполненный незримым ожиданием, тревогой, вопросом: дотянется ли сюда пламя? Олави не был героем – Виртанен старший приучил его твердо держаться земли (и не бухать, а только чтобы печень пощекотать), не рвался на фронт, не мечтал о подвигах. Он просто вел счета, изредка позволяя себе мечтать о тихом будущем – может быть, о собственной лавке, о семье. Но война, даже не коснувшись его напрямую, уже изменила что-то внутри. Она напоминала ему, что мир – хрупок, что где-то там, за морем, за границей, люди убивают друг друга, а он сидит здесь, в безопасности, и считает чужие деньги. И от этого было немного стыдно. Совсем чуть-чуть. Потому что потом уже стало совсем тревожно: к началу 1916 года война уже не просто «где-то шла» – она ползла к Финляндии, как сырая зима по чердакам. Гудки пароходов стали звучать реже, а в газетах – чаще статьи о «патриотической ответственности малых народов».
«Если не в шинель, то к лопате», – так говорили в цеху.
«Если не на фронт, то в обоз», – добавляли в очереди за керосином.
«Если не в обоз, то в сортировочный лагерь на границе.», – шептали самые информированные.
Антти Виртанен, у которого душа была тонка, как шов на фуфайке, почуял беду сразу. Слухи о мобилизации финнов в инженерные батальоны и на принудительные работы не могли быть просто дымом. Да, сына не призовут с ружьём, но могут потянуть к шпалам, копать траншеи для «русской армии, которой всё мало». А мальчик у него – умный, но к лопате не приучен. И главное – не должен быть приучен.
Благо многие хоть и считали Антти занудой, но друзей (и собутыльников) от этого меньше не становилось, да и бригадиром абы кто столько лет не продержится. Тем более когда в стране начались такие строгости а алкоголем , что все употребление переместилось в проверенные подвальчики ушлых самогонщиков и контрабандистов (с контрабандой, правда в Тампере было плоховато – далеко и от моря, и от границы). В одном из таких гостеприимных подвальчиков неподалеку от фабрики у Антти как раз и водились нужные люди: спившийся фельдшер, в прошлом один из неплохих врачей в самом Хельсинки, а теперь числившийся «поставщиком санитарной казны». Через него и удалось пристроить Олави в госпиталь для раненных в Выборге. Счетоводом, разумеется – какой из него врач? Только быков холостить, да и то опозорится. Но самое главное – это и зарплата, и должность при армии: такого точно ни в окоп не заберут, ни шпалы в Сибири прокладывать.
2
Выборг понравился Олави – приятный, лишенный суеты большого города, но менее провинциальный, чем Тампере. Война, правда, чувствовалась здесь несколько сильнее, особенно в виде многочисленных российских военных, проходивших лечение в тыловых районах, одним из которых был и Выборг. В остальном – тот же Тампере, только в профиль и с претензией на столичность, а не на основательный труд.
В военном госпитале, бывшей городской больнице, его должность – «канцелярский бухгалтер» – не просто значилась в приказе. Она давала документ, а с документом – бронь от всех возможных передряг. Олави, правда, особого облегчения от этого документа не испытал – да, в Тампере было тревожно, но, на самом деле, можно было и дальше спокойно сидеть в каморке за лавкой и сверять накладные. Тем не менее, ему все нравилось. Благо, русский язык ему в свое время пришлось выучить – чем черт не шутит, может и карьеру сделал бы. Но пока – бумажки, бумажки. И Выборг – если выпало в империи родиться, лучше жить в провинции у моря. Правильно, ведь?
Но война – всегда война. Даже там, где все кажется оставшимся без изменений. Особенно когда цифры, которые сводишь в дебет и кредит пахнут кровью, страданием и смертью. Олави не имел дела ни с пациентами, ни с диагнозами, с одними только врачами и медсестрами, но он знал: если бинты, спирт и морфий уходят на складе не мимо сторожа, а по отчету – значит, что-то серьёзное, значит прибыли новые раненые, значит кому-то снова «повезло» не погибнуть в лобовой атаке, а остаться инвалидом. И это было тяжело. Олави пытался абстрагироваться, пытался не замечать, но от себя не убежишь.
Сначала все было строго и по-военному: немного спирта, «для успокоения нервов», как говорил фельдшер, у которого всегда водилась бутылочка «для растираний». Потом – чуть больше: самогонщики и в Выборге не стояли без дела. Но отцовские заветы не прошли мимо: Олави пил ровно столько, чтобы не свихнуться: один глоток – чтобы забыть запах хлорки; второй – чтобы не думать о войне; третий – потому что знал: жизнь – страдание.
Алкоголь не мешал ему считать. Он всё ещё был безупречен в отчётах. Никто не мог упрекнуть его в неточности или оплошности. Но сам он замечал: рука стала чуть тяжелее, когда писал фамилии, и взгляд – чуть дольше задерживался на строках с припиской «списанопо причине летального исхода». Он не падал. Не терял лицо. Но каждый вечер становился его маленькой войной с самим собой: между тем, кто он есть, и тем, кем мог бы стать, если пустить всё на самотёк. И всё же он держался. Изо всех сил.
Нет, конечно, не все было так плохо, жизнь в Выборге шла – и шла неплохо. Выборг жил, как живут города на краю империи в эпоху перемен: осторожно, но не уныло. Закончив с бумагами в госпитале, Олави часто отправлялся прогуляться по городу, посмотреть, что онможет предложить сегодня вечером: иногда это был небольшой концерт, в крохотном зале при одной из гимназий; иногда – уютное кафе, в котором можно было плеснуть немножко того, чем обычно щекочут печень, в кофе, и посудачить о мировой политике с такими же любителями щекотки, или кофе. Ну и само пьянство, разумеется! В условиях войны и пусть и не полноценного сухого закона, но жестких ограничений на продажу крепкого алкоголя, оно сводилось не к одному только медицинскому спирту в госпитале, не к одним только подмигиваниям в кафе: самогон лился буквально рекой, стоило только захотеть. Хотя иногда и хотеть не требовалось, ведь Выборг был полон доморощенных (и умелых) виноделов. Особенно любил Олави продукцию господина Сюллерё, аптекаря, славившегося своими анисовыми «каплями для горла» и вдовы Кархунен, которая вроде бы как торговала домашним сыром, но только что-то ни коров, ни коз у ней в квартире (на третьем этаже) замечено не было. Да и «сыр» был какой-то жидкий, обжигающий… Но клиенты были довольны, народная тропа к ее «сыродельне» не зарастала. В общем – нервов на работе было много, чернухи на душе – еще больше, но всегда можно было найти способ скрасить себе вечер, залатать внутреннюю щель, тихонько расползавшуюся вместе с привычным миром, который рушился в данный момент.
Но можно ведь было и просто уйти в мир грез! Олави выписывал журналы – один литературный, другой —бухгалтерский. Первый – для души, второй – «чтобы мозг не размяк». Он пытался не стать циником, но всё происходящее вокруг казалось ему одновременно и трагедией, и опереттой.
А были еще и мимолётные приключения: учительница из гимназии с концертами, медсестра с копной рыжих волос, дочка булочницы, легких нравов любительницы «сыров» вдовы Кархунен (да и сама вдова была далеко не старуха-процентщица – в самом соку женщина). Но он ни к кому из них не привязывался. Всё казалось временным. Даже он сам – временным в этом городе. Как командированный, который давно пустил корни, но обманывает себя, что «вот-вот уедет».
По вечерам он читал Достоевского и Рунеберга. И если первый щипал по живому, второй – гладил по плечу. От обоих становилось не легче, но яснее. Так он и жил: на границе войны и мира, водки и воды, бухгалтерии и поэзии. Он был как город – вежливый снаружи, беспокойный внутри. И хотя госпиталь тянул силы, а газеты тревожили слухами о революциях, мобилизациях и «огне мировой революции», Олави знал: всё это – ненадолго. И это было не хорошо, и не плохо. Но сам он понимал, как бы тяжело не было – дела идут славненько. И это не могло не радовать.
3
Зима стояла серая, без особых морозов, но с ветром, который пробирался даже в каменные стены госпиталя. Сквозняки становились частью повседневности – как и всё то, что пока ещё только «происходит где-то там», в России, на вокзалах и фронтах, в министерствах и на заводах. В госпитале говорили вполголоса. Слишком много писем не доходило. Слишком много офицеров приходило и уходило с глазами, в которых тревога уже давно перешла в усталость. Газеты писали противоречиво – вчера одно, сегодня другое. В статьях появлялись слова: «анархия», «временное правительство», «дисциплина на исходе».
Но в Выборге всё ещё кипела жизнь. В маленькой лавке рядом с почтой работала дама по имени Вильма Сетяля – молодая жена старого профессора. Она торговала книгами: русскими, шведскими, финскими. Через неё Олави впервые прочёл Паасивикиви, Эйно Лейно, и дажепублицистику из Стокгольма, где уже вовсю обсуждали: быть ли Финляндии с Россией или быть Финляндии самой собой? В воскресных салонах – полулегальных, но вполне уютных – читали стихи, спорили о будущем, о праве на язык, о правах парламента, о том, можно ли быть финном и не быть революционером.
Олави сначала сидел в углу, молча. Но слушал. А потом – стал задавать вопросы. Осторожно, не как агитатор, а как человек, который начинает чувствовать, что у него есть страна, и что она не обязана быть лишь “окраиной империи” с хорошей рыбалкой и скромным гимном.
– Мы – не мятежники, – говорил один молодой учитель в очках. – Мы – уставшие.
– Уставшие от чьих-то царей, от чужих чиновников, от приказов, в которых финская строка идёт вторая.
Олави не был радикалом. Он не любил лозунги. Но слово «свобода»начало звучать для него как нечто личное, а не только газетное. Он понимал: речь не о флагах и маршах. Речь о достоинстве. Да и к русским он никакого негатива не испытывал. У него даже были русские знакомые – вполне приличные. Один из них, бывший моряк, теперь сторож в порту, однажды сказал:
– Если бы я был финном, я бы тоже хотел от царя уйти. Вас не ценят. Вы – как хорошие часы, которых никто не заводит.
Это был странный комплимент, но Олави запомнил. Потому что, пожалуй, впервые услышал от русского признание в праве Финляндии быть собой. И когда пришли первые вести о волнениях в Петрограде, когда газеты напечатали: «Император отрёкся», – Выборг будто на секунду задержал дыхание. А потом кто-то сказал:
– Ну вот, теперь или они нас заберут с концами, или отпустят, чтоб не мешали.
Олави в тот вечер не пил. Он сидел дома, листал старые журналы и думал:
«Если уж рушатся империи, то может, и нам пора собирать своё? Потихоньку. По-честному. По-фински. Вежливо».
Он всё ещё ходил на службу. Всё ещё аккуратно подшивал накладные. Всё ещё считал: бинты, лекарства, провиант. Но в голове начали складываться другие суммы. Если у страны есть язык, культура, привычка к порядку и уважение к труду – почему она не может быть самостоятельной? Он не носил флага, не читал прокламаций. Но идея независимости Финляндии, спокойная, как финский дом, начала оседать в нём – твёрдо, глубоко и без шума. Это была не мода. Это было убеждение. И оно – крепло. Вплоть до самой весны. А весна 1917 года была ой какой неспокойной.
В госпитале Олави продолжал вести бухгалтерию. Там тоже шли разговоры – осторожные, по привычке, но с растущей уверенностью, что «старое закончилось». Некоторые врачи, особенно те, что учились в Петербурге, говорили о «революционном моменте» и «времени новых людей». Медсёстры обсуждали рост цен на сахар, а старший аптекарь тихо прятал морфий в сейф, хотя никто ещё не приказывал. Но сам госпиталь держался на удивительном принципе, который выразил один пожилой доктор:
– Люди умирают вне зависимости от того, кто у власти. Поэтому бинты и морфий нужно выдавать всем одинаково.
Олави слушал и кивал. Он знал: врач может быть эсером, санитар – большевиком, пациент – анархистом, а он – счётный стол посреди всего этого. Сухая чернильница, аккуратный шрифт и суммирование расхода – вне идеологии.
Иногда он думал: «Вот придёт новая власть – скажут: ты служил старым!» Но потом махал рукой. Потому что и старым он не служил – он служил порядку. Он никому не служил – он сидел и считал. Он служил Пифагору! А математика была вне режима, как и чистота в перевязочной. Но революция произошла, это был такой же математический факт, как дважды два. Одни говорили: будет независимость; другие: будет новая война, еще страшнее этой; третьи – хуже всего: будет и то, и другое. При этом на фоне разговоров и революции жизнь шла как обычно: Олави подсчитывал расходы на бинты, керосин и бумагу.
Он не чувствовал себя героем времени. Но и не был статистом. Он был тем, кто сохраняет логику в мире, где всё остальное пошло вразнос. Он видел, как улицы начали патрулировать люди с красными ленточками. Видел, как некоторые офицеры исчезали – тихо, без объяснений. Видел, как медсёстры говорили по-русски шепотом, а по-фински – всё громче. Но он знал: пока в здании горит свет, и ему дают ведомость – всё ещё можно работать.
Он не ставил вопросов. Но где-то внутри всё чаще возникал один ответ: Финляндия должна идти своим путём – без царей, без комиссаров, без крови. Может быть, это наивность. А может – последняя форма здравого смысла.
4
6 декабря 1917 года в госпитале, как ни странно, царила обычная суета. Утренние замеры температуры, завтрак, сдача белья и выписки, путаница с новыми приходами – всё шло своим чередом. Только старший врач ненадолго выглянул из ординаторской и сказал как быневзначай:
– Ну что, господа, Финляндия теперь – официально свободна.
Медсёстры переглянулись. Аптекарь покашлял. Даже повар на кухне перестал шуметь кастрюлями и замер на секунду. Олави стоял у своей конторки, держа в руках счёт за капроновую нитку, и понял, что запомнит этот момент навсегда. Свобода – не как лозунг, а как бухгалтерский факт: дата, которую нужно занести в ведомость истории.
Через две недели он отправился в Тампере – первый раз за год. Билеты достал с трудом, поезд шёл с перебоями, на станциях стояли вооружённые патрули, а в тамбуре вагона говорили шёпотом, будто не Рождество грядёт, а что-то совсем иное. Но дома было тепло. Мать поставила на стол пирог с лососем, отец налил немного домашней наливки – «чисто печень пощекотать». Говорили сначала о погоде, потом – о Выборге, наконец – о независимости.
– Ну что, – сказал отец, поправляя очки, – теперь у нас есть своя страна. Хоть раз в жизни.
– И что дальше? – спросил Олави. – Легче жить от этого не стало.
Отец откинулся на спинку стула, затянулся папиросой и ответил сдержанно:
– Дальше – жить. Спокойно, без глупостей. Ты ведь у государства служишь. Больницы при всех режимах нужны.
– Может, вернуться сюда? – неуверенно спросил Олави. – Тут всё родное.
Мать вмешалась, с мягкой уверенностью:
–Сынок, тебе и в Выборге неплохо. Там работа, люди хорошие, книги. И ты уже не мальчишка. Будь на своём месте. Служи – и не вмешивайся. Смотри, сколько лет отец проработал – и ни на кого пальцем не показывал. Вот и ты так. Какая разница что считать? Чулкиили таблетки?
Олави ещё не знал, что через несколько недель страна окажется в огне: с началом Гражданской войны в Финляндии город быстро оказался в зоне контроля Красной армии. Госпиталь объявили «объектом стратегического назначения», а сам он – «государственным служащим Революционной Финляндии».
Олави не сопротивлялся, он уже ничему не удивлялся, но он твердо знал – эта власть не его. Он видел, как рабочие, ещё недавно соседи, вдруг стали комиссарами, ходили в кожаных куртках, отдавали приказы, как будто за неделю постигли суть управления страной. Видел, как конфисковывали у аптек препараты «в пользу революции», как в палаты стали поступать люди с огнестрельными ранами – не с фронта, а с улицы. Видел, как врачи спорили на собраниях, кто «лоялен», а кто «буржуй». И всё это было не о труде, не о заботе, не о порядке – а о крике, страхе и пустых лозунгах.
Олави никогда особо не участвовал в политике. Он не носил значков, не выкрикивал речёвок, не поднимал кулака на митингах. Но внутри него давно жила убеждённость, выстраданная с детства, привитая отцом и матерью:
– Работать надо, Олави. Не кричать, не требовать, не грабить. Работать – и жить по совести.
Отец, будучи фабричным бригадиром, всегда уважал труд, но презирал «тех, кто под шумок всё развалит». Мать говорила проще: «От болтовни хлеба не прибавится». Олави это казалось простым и понятным. Он не симпатизировал и белофиннам, но и не верил в насилие во имя добра или «равенства», а потому – просто работал. Цифры не меняются.
Каждый день Олави приходил в госпиталь. Вел учёт, распределял припасы, составлял отчёты. Он не выражал политических взглядов. Не спорил. Он просто – делал свою работу лучше всех. За это его уважали. Красные комиссары не трогали. Врачи поддерживали. Даже сестра-активистка, клеившая на стену «Да здравствует революция!», однажды прошептала:
– Хорошо, что ты есть, Олави. Без тебя тут бы давно всё растащили.
Он ничего не ответил. Только записал, сколько морфия ушло на раненых за неделю.
Ночами, сидя в своей комнатке на втором этаже старого доходного дома, он читал газеты, слушал, как по улице маршируют гвардейцы, и думал о Тампере. Как там родители? Как вообще страна? Что будет завтра? Он знал, что война – это не навсегда. И что когда она кончится, кому-то придётся разбирать завалы, сводить счета, лечить живых и хоронить мёртвых.
Парадоксально при этом то, что, несмотря на творящийся беспредел и войну, с приходом красных пропала прежняя строгость: старые порядки разрушались торопливо, с энтузиазмом, но без плана. Разговоры о классовом равенстве быстро уступили место более земным вопросам: где достать еду, как бы не угодить под раздачу, и – где найти что-нибудь выпить.
Новая администрация была озабочена многим, но только не контролем за алкоголем. Более того – многие из комиссаров были не прочь «отметить победу революции». Городские склады оказались открыты, конфискованное вино и спирт из подвалов буржуазии пускалось в оборот. Олави поначалу был осторожен. Он знал свою слабость и пытался держаться. Но работа в госпитале становилась всё напряжённее – поток раненых не прекращался, снабжение путалось, распоряжения сверху менялись каждый день. Он снова начал «по чуть-чуть». А потом – как водится.
– Печень сама себя не пощекочет, – мрачно шутил он, любовно пряча за пазуху очередную бутылочку «сыра» вдовы Кархунен.
От вдовы Кархунен он возвращался и тем вечером в марте 1918. Вечер прошел на славу – хозяйка была в приподнятом настроении и собрала вокруг себе уютный кружок из постоянных клиентов, где под оставшийся еще кофе с ее «сыром» беседа текла неторопливо и оченьуютно, будто и не было никакой революции, будто огонь полыхал только в стаканах, а не на баррикадах.
Где-то за церковью глухо гремят орудия – белые финны сжимают кольцо вокруг Выборга, а красные отчаянно цепляются за каждый квартал. Но Олави Виртанен, бухгалтер городской больницы, думает сейчас не о войне. Он осторожно пробирается по темному переулку, кряхтя и спотыкаясь о булыжники. В голове немного гудит, но он знает дорогу – еще два поворота, и будет его дом, а там – жесткая койка и одеяло, пропахшее карболкой.
Вот только впереди, у входа в подворотню, лежит человек.
– Опять кто-то наотмечался… – бормочет про себя Олави, подходя ближе.
Луна выскользнула из-за туч, и он различает грязную шинель, сапоги со стертыми каблуками, темное пятно на груди – не вино, нет. Кровь.
– Эй, ты… жив?
Олави наклоняется, хватает незнакомца за плечо. Тот внезапно вздрагивает, вцепляется в руку бухгалтера ледяными пальцами и приоткрывает глаза.
– Товарищ… – хрипит он по-русски. – Во фляге…
Губы шевелятся, словно он пытается что-то добавить, но вместо слов изо рта вытекает алая струйка. Рука разжимается. Голова падает набок. Олави отскакивает, сердце колотится где-то в горле.
– Он выпить хотел перед смертью?
Олави огляделся – переулок был пуст. Тогда он, кряхтя, опустился на корточки, распахнул шинель покойника и полез во внутренний карман. Фляга. Тяжёлая, металлическая, та самая, в которой обычно берут коньяк «для сугреву». Олави тут же открутил крышку и поднёс ко рту.
Пусто.
– Да чтоб тебя…
Он уже хотел швырнуть её в сторону, но тут заметил: внутри что-спрятано.
– Что за…?
Где-то вдали раздались шаги. Олави судорожно сунул флягу к бутылке самогона и поспешил домой.
5
– Чёртовы красноармейцы… чёртова война… – пробормотал Олави, скидывая промокшие ботинки у себя в комнате.
Фляга жгла карман. Олави вытащил её, бросил на кровать, а сам зажёг керосинку. Оранжевый свет заплясал по стенам, и бумага, извлечённая из металлического сосуда, теперь выглядела ещё загадочнее. Фляга оказалась маскировкой – легкое нажатие и она открылась как портсигар. Внутри были документы. Много. Схемы, пометки. Все – очень мелким почерком.
– Гойда…
Он провёл ладонью по лицу, почувствовал, как хмель наконец отпускает. Стресс протрезвил его лучше, чем ушат ледяной воды. Где-то за окном проехала телега, крикнул пьяный голос. Олави вздрогнул и судорожно скомкал бумаги, но тут же опомнился и разгладил их ладонью. Если это действительно что-то важное…
Мысль повисла в воздухе: «А что, если это поможет белым?» Но тут же другая: «А если красные узнают, что это у меня?»