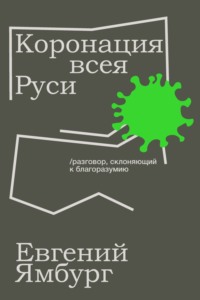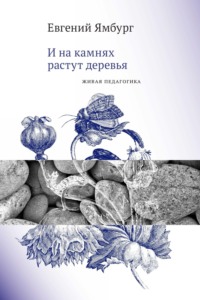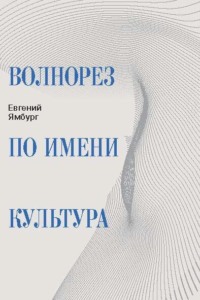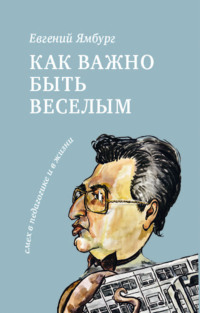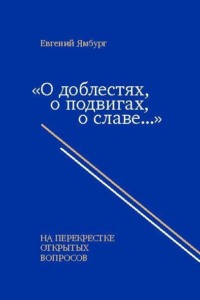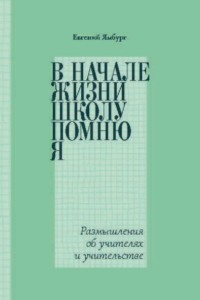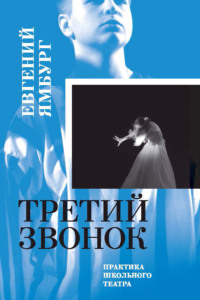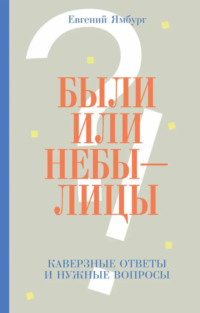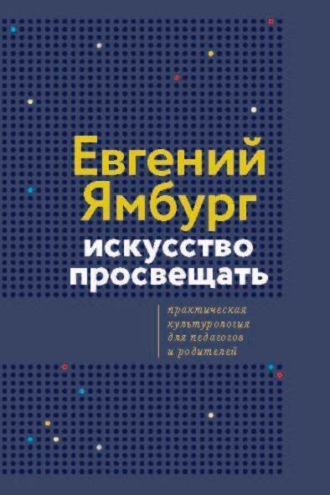
Полная версия
Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей
1. Какова учебная нагрузка у учителей в школе (средняя, у тех, кто непосредственно причастен к разбираемому случаю)? И какова средняя заработная плата (реальная и отчетная, в том числе опять же у причастных)?
До дневников ли педагогических наблюдений этим учителям с такой нагрузкой и такой зарплатой за нее (удельную зарплату посчитать – будет совсем наглядно: сколько стоит урок для учителя, а еще сколько платят за 1 ученика на 1 уроке)?
Вы бы согласились за такую плату провести урок?! Причем не один, а ежедневно много… И сравнить с часом оплаты труда (включая все надбавки и премии) работника министерства.
2. Какую отчетность (в том числе по ходу введения ФГОС[13]) с них требуют?
Ведется ли электронный классный журнал в дополнение к бумажному или заместил бумажный?
И, наконец, сколько запросов на предоставление всякой отчетности в среднем в день приходит администрации из разных инстанций, в том числе непосредственно из регионального министерства образования, федерального министерства и муниципальных органов управления образованием? Сколько мониторингов регионального института повышения квалификации учителей в этом месяце было проведено?..
И тогда можно выйти на разговор о неэффективности управленческой деятельности органов управления образованием, которые завалили своими запросами и отчетностью (стыдливо называемой мониторингом для сокрытия истинных размеров беспрерывных отчетов).
3. Комментарий по поводу „книг не читают“. Директор школы рассказала, что в рамках реализации „концепции модернизации общего образования в их городе“ потребовали от всех учителей законспектировать труды Выготского и „Педагогическую поэму“ Макаренко. Учителя плачут, отказываются – так как им некогда, школа (и они) работает в режиме полного дня (совмещают ставки воспитателей). Домашние дела ведь есть. Да и на своих детей посмотреть хочется.
С одной стороны, должны это знать (?!), в институте изучали (или нет?!). С другой – они совершенно правы. С третьей – в таком случае о каких современных технологиях вести речь?
Но вывод у меня один. Восемнадцать часов на ставку – научно обоснованная нагрузка была установлена в советское время. И, если она сильно превышена, никакой работы, о которой написал администратор, НЕ БУДЕТ вестись учителями (разово, для отписки чиновникам – сделают, но системно – нет, это нереально). Для ее ведения нужно время, и оно должно быть оплачиваемо.
Поэтому экономика первична!
Пока не будут платить за ставку достойную зарплату, этого не будет.
А платить не будут, даже если найдут деньги (которых, как известно, для населения у властей нет): нет педагогов, острый дефицит кадров. Впрочем, дефицит именно при нынешнем уровне зарплаты. При ее реальном (а не нарисованном) росте, очень вероятно, будет переток кадров из других сфер деятельности».
Свою точку зрения выражает руководитель управления образования сельского региона: «Совершенно очевидно, что в письме сотрудника регионального министерства, отвечающего за безопасность, много полезного для школы, для учителя. Хочу возразить вот по каким моментам. „Педагогику сменили на диагностические таблицы“ не учителя, не школа. Они приходят свыше со сроками обязательного исполнения, а на совещаниях регионального уровня результаты таких диагностик еще и публично обсуждают. Да, они „сляпаны на скорую руку неизвестным автором“, но все же не учитель должен искать автора инициатив, рождающихся на уровне министерств и их ведомств. При обилии органов надзора и контроля неизвестность таких авторов несколько странновато выглядит. Да и почему бы начальнику Отдела комплексной безопасности не сделать запрос об авторстве со своим подтверждением неэффективности таковых методов исследования?
Что касается ПМПК… На эту комиссию ребенка можно привезти только с согласия родителей. Не так давно директор одной из школ нашего района обстоятельно и дипломатично объяснил отцу „трудного“ школьника о необходимости показать его сына на ПМПК. В ответ тот бросился на директора (женщину) с оскорблениями и угрозами: „Я сам знаю, что мне делать со своим сыном!“ Пришлось вызывать полицию. А мальчика комиссии так и не показали. Я понимаю, что у каждой истории есть как общая композиция, так и индивидуальная. Хотелось бы, чтобы в индивидуальных разбирались тщательно, чего у нас обычно не делают.
Тот факт, что завуч показывает планы массовых мероприятий, расписаний кружков, отчеты с количеством проведенных акций, олимпиад, протоколы педсоветов, лишь подтверждает тот невыносимо муторный и бестолковый характер отчетов по инстанциям.
Что обычно требуют, то и показывают, завуч не готова к тому, что документы запросил „чиновник, сохранивший педагогическую сущность“. Это, конечно, нисколько не оправдывает отсутствие характеристик на проблемного ученика.
Несомненно одно (об этом и написал Евгений Александрович Ямбург): „Поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же“. При нашем запущенном состоянии самообразования и достраивания себя учителем понимание того, что „так воспитывать нельзя“, должно все же сопрягаться и с пониманием: „так руководить отраслью образования нельзя“. Общался недавно с коллегой из соседнего района. Оптимизационные мероприятия привели к тому, что учителя там ведут по 40 часов в неделю. Вот вам и педагогический дневник.
P. S.
Не распространяюсь о том, что, действительно, учителя мало читают, мало занимаются самообразованием, шаблонность мышления распространена повсеместно и т. д. Мы часто об этом размышляли и, конечно, мировоззренческая убогость имеет место быть».
Накал дискуссии невероятно повышало описание эксцесса, произошедшего в ноябре 2018 года в одной из школ Иркутской области. История попала в СМИ.
«Бросили с переломом на улице (Учителя в Малом Голоустном довезли пострадавшего школьника до дома и оставили одного у калитки)
Лариса Плеханова и ее семья (у женщины кроме 17-летнего Жени еще трое детей – старшая дочь, которая живет самостоятельно, 14-летний сын и 9-летняя дочь) хорошо известны не только в Малом Голоустном, но и по всей области – они организуют путешествия с аляскинскими маламутами. (Маламут – крупная собака аборигенного типа, предназначенная для работы в упряжке.)
Все местные знают, что у Жени диабет, и относятся к нему с особенным вниманием. „У меня один вопрос, – говорит Лариса, – почему никто не догадался вызвать скорую? Было очевидно, что ребенку очень больно. Мимо проходила медсестра из детского сада, сказавшая, что нужно вызвать скорую, но Женю все же подняли, усадили в машину, чего при переломах категорически нельзя делать, а потом и вовсе оставили одного у калитки стоять! Как такое возможно?“
Сейчас Женю Домошонкина наблюдают врачи Иркутской областной детской больницы. С ним они давно знакомы по другому заболеванию, а теперь помогают перенести сложный перелом. Только чудом отколовшийся кусок кости не вскрыл парню артерию при перемещениях из школы домой. Женя закован в гипс, и пока неизвестно, сколько времени ему придется провести в таком состоянии.
Директор школы поселка Малое Голоустное Дарья Хохлова во время ЧП с Женей была в отпуске и объяснить поведение своих подчиненных не смогла.
Что нужно сделать, если вы видите упавшего человека, который не может подняться и жалуется на острую боль? Большинство без колебаний ответят: вызвать скорую. Но не всем такое решение кажется очевидным. Учитель и охранник школы из поселка Малое Голоустное просто довезли 11-классника с переломом шейки бедра до дома и оставили у калитки ждать отлучившуюся по делам мать.
Женя Домошонкин – особенный ребенок. В 10 лет ему поставили диагноз „сахарный диабет“. Врачи определили очень редкую форму заболевания – таких, как Женя, в области всего двое. Мальчик продолжил учиться со сверстниками, но 9-й и 10-й классы, по рекомендациям медиков, окончил на домашнем обучении. Впереди были выпускные экзамены, и летом администрация школы предложила матери вернуть Женю в класс. К тому времени ему уже установили инсулиновую помпу, и врачи дали согласие на обучение. Жене тяжело ходить, поэтому было решено, что до школы, а это полтора километра, он будет ездить на квадроцикле.
– Конечно, мы переживали. Женя тоже волновался, как его примут. Но, взвесив все, решились, – рассказывает мать мальчика Лариса. – 1 сентября он пошел вместе со всеми в школу. Дети в нашем классе молодцы, сын быстро адаптировался, сдружился с ребятами – все было хорошо.
Однако не все школьники восприняли Женю адекватно. Вообще, в небольших учебных заведениях любым новичкам всегда оказывают много внимания. Особенно Женей заинтересовался рослый хулиган из шестого класса.
– Сын пытался с ним поговорить, объяснял, почему он выглядит чуть младше своих одноклассников, что у него помпа и не стоит его донимать, – вспоминает о случившемся Лариса. – Все оказалось бесполезным. Парнишка постоянно его задирал – то ткнет, то потянет, то еще что-то. В этот раз он снова на перемене пристал к Жене. Сначала обзывался, матерился, а потом стал его тыкать то в спину, то в живот. Женя пытался увернуться, а тот подставил подножку, и сын упал. И падение оказалось очень неудачным.
Давать оценку поведению хулигана будут в комиссии по делам несовершеннолетних. Больше вопросов возникло к взрослым, оказавшимся в тот момент рядом с Женей.
– В понедельник, 12 ноября, я поехала по делам. Сын позвонил мне в слезах, говорил сбивчиво, я не могла понять, что произошло. Он повторял, что ему очень больно и он не может подняться. Я попросила 10–15 минут, чтобы доехать до школы. И тут кто-то предложил довезти его до дома, он передал это мне, я согласилась и поехала быстрее к дому. Проблема в том, что я не видела и не понимала, что произошло, не могла оценить.
Рядом с Женей были классный руководитель, учитель английского языка Людмила Мигунова, охранник и вахтер. Все вместе они подняли мальчика, одели, довели до машины. Охранник в сопровождении Людмилы Константиновны довез Женю до дома, там они его оставили и уехали.
Когда Лариса примчалась домой, Женя стоял у калитки, крепко вцепившись в ручку. У него было белое лицо, текли слезы, парень едва держался на ногах.
– Я стала его расспрашивать, а он говорит: „Я не могу ступить на ногу“. Попробовали сдвинуться с места – он в крик, видно, что боль сильнейшая. Тогда я на себе понесла его в дом. От боли он не мог даже повернуться! Стала звонить в школу, чтобы узнать, что там случилось, но завуч не взяла трубку. В итоге я вызвала скорую помощь, через час приехали врачи и начали меня ругать: „Почему вы позволили его перемещать?!“
Когда медики поняли, что это сделали в школе, ругались уже на них: „В таких случаях нельзя допускать лишних движений, а тем более ставить на ноги, перевозить без специальных условий!“ Врачам скорой сразу стало понятно, что у парня перелом, его погрузили на носилки и срочно доставили в Иркутск.
– Когда мы уже грузили Женю в машину скорой помощи, я дозвонилась до завуча и спросила: „Как вы допустили такое? Его нельзя было двигать!“ На что она удивилась: „А что случилось?“ Прошло два часа, а она ничего не знала о произошедшем! Значит, Людмила Константиновна скрыла это от руководителя?
Женю привезли в травмпункт на Волжской, сделали снимок, который подтвердил перелом шейки бедра. Мальчика положили в больницу. Но и тут не обошлось без накладок: согласно инструкциям, Женю увезли в ближнюю медсанчасть, где сразу заковали в гипс. И только утром, после того как мать подняла шум, перевели в Иркутскую областную детскую больницу, где сделали новые снимки и экстренно прооперировали.
– Рядом с артерией (!) оказался осколок кости, и в любой момент он мог просто проткнуть ее. Что было бы дальше, страшно представить. Как потом объяснил хирург, им пришлось вставлять спицу и оттягивать ногу так, чтобы этот осколок убрать вместе с мышцей от артерии. Это была первая операция, а через три дня провели еще одну – установили металлические пластины.
Сейчас Женя в гипсе по пояс. Ему нельзя сидеть и вставать, впереди долгий процесс восстановления.
Вернемся к школе, где сразу несколько взрослых нарушили правило, знакомое, кажется, даже первоклашкам. Эти взрослые прекрасно знали о заболевании Жени, ведь в школу была передана его реабилитационная карта, и что мальчик требует особого внимания. Впрочем, любой школьник требует внимания и имеет право на оказание первой медицинской помощи.
– Завуч перезвонила вечером с вопросом: „Ну что, как дела?“ Я ответила: „Ничего хорошего“ – и на этом прекратила общение. Мне невыносимо было говорить, – вспоминает Лариса Плеханова. – Я обратилась в полицию, и утром перед операцией Женю успели опросить. Потом завуч снова мне звонила и после нескольких слов сочувствия заговорила о заявлении, которое я подала в полицию. Я поняла, что речь пойдет о том, чтобы мы его забрали, и отключила телефон. Она еще много раз меня набирала, но я была не в силах разговаривать – пережила пять дней настоящего ада. Позже я сама ее набрала, но опять не узнала, почему ребенку не вызвали врачей. Зато узнала, какие сейчас ведутся курсы в школе… По слухам, учителя пытаются повернуть ситуацию так, будто я сама сказала везти его домой. А это ложь. Этого не было.
К слову, классный руководитель побывала у матери Жени через три дня после ЧП, принесла конверт с деньгами – от коллектива школы. Но объяснять свое поведение не стала. Не заговорила она об этом и в палате у Жени, куда приходила рассказать о перспективах ЕГЭ.
Вопросы без ответов
Мы связались с директором школы поселка Малое Голоустное Дарьей Хохловой и задали ей один вопрос: „Почему учителя и персонал не вызвали пострадавшему мальчику скорую помощь?“ Однако ответить Дарья Николаевна не смогла.
– Я была в отпуске, вышла только на этой неделе и всей картины пока не знаю, поэтому не могу пояснить, что там произошло.
Тогда мы задали вопрос иначе: „Что должен делать учитель, если школьник получил травму в школе и жалуется на острую боль?“
– Я пока не знаю, что вам ответить. Конечно, на этот счет есть инструкции, правила, но так сразу я не могу сказать…
На этом связь прервалась. Впрочем, чтобы сделать выводы, сказанного вполне достаточно».[14]
На эту историю немедленно реагирует первый участник дискуссии, отвечающий за безопасность. Он справедливо усматривает здесь грубое нарушение должностных инструкций, допущенное школой: «Относительно письма о травмированном ребенке. Школа нарушила элементарное. Скорую должны были вызвать незамедлительно. Наверняка у них на этот счет есть инструкции и приказы. (Что чистая правда. – Е. Я.) Вполне возможно, администраторы хотели скрыть этот случай.
Обсуждать тему можно бесконечно. На замечания и несогласия можно было бы дать комментарии, привести новые аргументы. Круг вновь замкнется, но аргумент останется – ежегодно растущее детское кладбище и койки травматологических отделений больниц. Боже упаси меня обвинять во всем педагогов! Но они были и будут рядом с ребенком, когда родителям „некогда“. А сколько надо платить классному руководителю, чтобы он проявил такт, расположил к себе горе-мамашу да узнал бы от нее, где она работает? Мне один из педагогов заявил, что он не будет интересоваться этим, так как соблюдает закон о персональных данных (??!!). А еще один психолог, что в прошлом году при разборе суицида заявила: „От меня он (ребенок) отказался, я и не стала с ним работать“. У нее, кстати, была приличная зарплата.
Вместо резюме: замечания, заметки запомнились. В конце концов, это еще одни грани проблемы. И спасибо моим оппонентам, искренне! В своей практике использую, будет что предъявить и моим начальникам».
Свою лепту в дискуссию вносит заместитель директора авторитетного, имеющего высокий рейтинг лицея, которая в качестве бабушки столкнулась с проблемой в собственном (!) образовательном учреждении: «В обществе действительно исчезает доброжелательность и стремление сделать приятное другому. Несколько дней назад моя дочь пришла с родительского собрания со слезами. Учитель сказал: „Мне противно брать в руки тетрадь ученика с плохим почерком!“ И это сказала учитель высшей категории, руководитель МО учителей математики!
А моя внучка, ученица 5-го класса, очень плохо пишет. Мы всю начальную школу работали над этой проблемой, она специально ходит в кружок по рисованию, но пишет коряво! Я перечитала разные рекомендации, но ничего пока не получается.
Но ведь в классе не только моя внучка плохо пишет, есть и другие дети. С каким настроением пришли другие родители с собрания? Почему нельзя принимать ребенка таким, какой он есть? Быть просто к нему доброжелательным?»
Своеобразным резюме, подводящим предварительные итоги дискуссии, следует признать точку зрения педагога, более тридцати лет стоящего у учительского стола. Кроме того, он заместитель директора по науке крупного образовательного комплекса, автор ряда научно-методических работ, адресованных педагогам. «Мне кажется, что начатый многими разговор о печальной участи учителя и образования в современной России при всей очевидной правде имеет один общий изъян. Все письма по умолчанию предполагают, что были времена, когда положение учителя было лучше, чем сейчас.
Между тем, скорее всего, оно всегда было тяжелым, что, видимо, следует из неразрешимого противоречия, характерного для самой профессии, которая, с одной стороны, требует „высокого призвания“ и „аскетического служения“, а с другой – является самой массовой из всех профессий так называемого умственного труда.
Чтобы не множить сущности, сошлюсь лишь на Н. В. Гоголя („Ревизор“), А. П. Чехова („Человек в футляре“), К. Г. Паустовского („Повесть о жизни“), где учителя выглядят не лучшим образом. Вспомним и многочисленные советские фильмы, и несколько американских о двух типах учителей. Один тип – одинокие „подвижники“. Другой – многочисленные „серые и равнодушные“. Общий взгляд как публицистики, так и художественных произведений – в том, что учителя либо просто не соответствуют своему имени, либо вынуждены нести непосильный крест.
И в нашем случае все, что написано участниками дискуссии, так или иначе сводится всего к двум позициям:
1) учитель не виноват и будет хорошим… если убрать то-то и то-то и дать то-то и то-то;
2) учитель должен делать свою работу, несмотря ни на что…
Полностью разделяя второй взгляд и стараясь (безусловно, недостаточно!) ему следовать, могу лишь добавить как работающий уже 48 лет школьный учитель, а также историк педагогики и образования, что второй путь единственно возможный, поскольку никто и никогда не давал учителю того, что ему надо, а, наоборот, во все времена всячески мешал ему работать. В некоторые из времен мешал „даже до смерти, и смерти крестной“ (Послание св. ап. Павла к Филиппийцам, 2: 8).
И в утешение напомню превосходное стихотворение Александра Кушнера:
Времена не выбирают,В них живут и умирают.Большей пошлости на светеНет, чем клянчить и пенять.Будто можно те на эти,Как на рынке, поменять.Что ни век, то век железный.Но дымится сад чудесный,Блещет тучка; я в пять летДолжен был от скарлатиныУмереть, живи в невинныйВек, в котором горя нет.Ты себя в счастливцы прочишь,А при Грозном жить не хочешь?Не мечтаешь о чумеФлорентийской и проказе?Хочешь ехать в первом классе,А не в трюме, в полутьме?Что ни век, то век железный.Но дымится сад чудесный,Блещет тучка; обнимуВек мой, рок мой на прощанье.Время – это испытанье.Не завидуй никому.Крепко тесное объятье.Время – кожа, а не платье.Глубока его печать.Словно с пальцев отпечатки,С нас – его черты и складки,Приглядевшись, можно взять.[15]Написано в 1978 году, когда положение учителя было вряд ли лучше, чем теперь. Поскольку я это могу подтвердить как свидетель. (32 часа в неделю, классы по 40–42 человека, 16 классов, классное руководство, три дня продленки, обязательная работа в каникулы, ленинский зачет, обязательные проф., комс., пион., прочие собрания, обязательная летняя работа в отпуск в лагере труда и отдыха. 125 руб. [инженер зарабатывал 160 с премиями, рабочий – 200 и больше].)
С уважением.
Без надежды, но с твердостью».
Свою точку зрения выразил приходской священник: «Рассуждения участников дискуссии весьма противоречивые – каждый видит со своей колокольни, и каждому трудно спуститься или взойти на колокольню другого. Человек по своей греховной искаженности инертен, а потому плывет по течению – может быть, куда-нибудь и вынесет. Увы.
Вы правы – народу нужны потрясения, чтобы измениться. Но наша личная человечность может проявляться не во всеобщем движении, а лишь в личностном взаимодействии – чем я в данную минуту, в данную секунду могу помочь данному человеку. Мне (как единице) не дано охватить мир и его окрестности, но конкретному человеку можно оказать помощь. Вот притча: после морской бури, которая вынесла на берег множество живых морских существ, маленькая девочка поднимала морские звезды и бросала их в море. Взрослый человек, который увидел столь необычное занятие ребенка, был весьма удивлен: „Ты же не можешь всем помочь! Зачем ты делаешь это?“ – „Зато я могу помочь этой звезде“, – ответила девчушка, бросая в море очередную морскую звезду.
Когда-то я был неверующим человеком, безразличным к вопросам веры. Но слово одного священника во мне многое перевернуло. Слово было публичное, сказанное для большой группы. Но откликнулся на это слово только я, – не резко, не сразу – но все стало по-другому. Вопрос: зря ли он проповедовал? Изменился ли после этого мир? Увы, мир в глобальном смысле не изменился. Но на ту минуту изменился мир хотя бы одного человека. А через него, возможно, в будущем тоже что-то поменяется.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Гоголь Н. В. Выбранные места из переписки с друзьями // Гоголь Н. В. Полн. собр. соч.: в 14 т. Т. 8. Статьи. М.: Изд-во АН СССР, 1952. С. 263.
2
Померанц Г. С. Любовь небесная и земная (Центростремительное и центробежное) // Континент. 1997. № 1. С. 313.
3
Сент-Экзюпери А. де. Цитадель / Пер. М. Ю. Кожевниковой. М.: Эксмо, 2009.
4
Померанц Г. С., Миркина З. А. Работа любви. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 27.
5
Галич А. А. Сочинения: в 2 т. Т. 1: Стихотворения и поэмы. М.: Локид, 1999. С. 319.
6
Гоголь Н. В. Собр. соч.: в 6 т. Т. 4. М.: Гослитиздат, 1959. С. 251.
7
Гумилев Н. С. Стихотворения и поэмы. Л.: Сов. писатель, 1988. С. 312.
8
Померанц Г. С., Миркина З. А. Работа любви. С. 25.
9
Высоцкий В. С. Избранное. М.: Сов. писатель, 1988. С. 435.
10
URL: https://45ll.net/vladimir_kornilov/stihi/#peremeny (дата обращения: 18.03.2020).
11
Новая газета. 2007. № 38. 24 мая.
12
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия.
13
ФГОС – федеральные государственные образовательные стандарты.
14
URL: https://irkutsk.bezformata.com/listnews/brosili-s-perelomom-na-ulitce/71127711/ (дата обращения: 29.02.2020).
15
Кушнер А. С. Избранное. СПб.: Худож. лит-ра, 1997. С. 162.