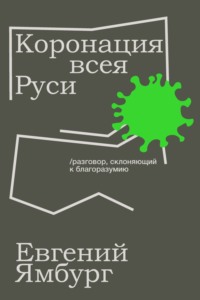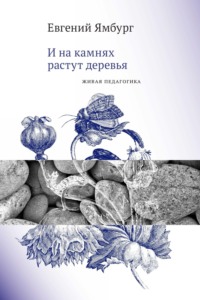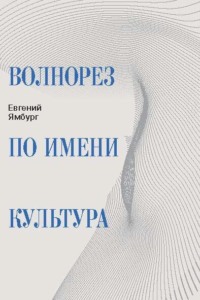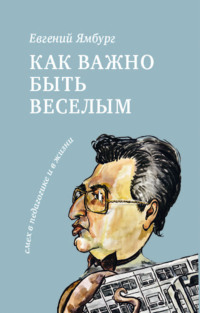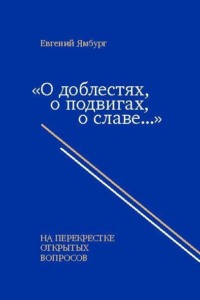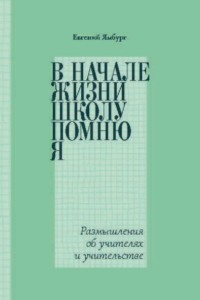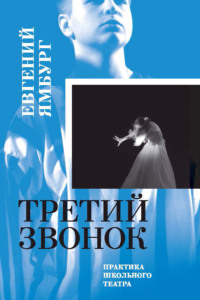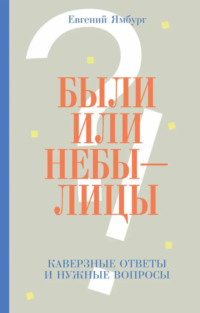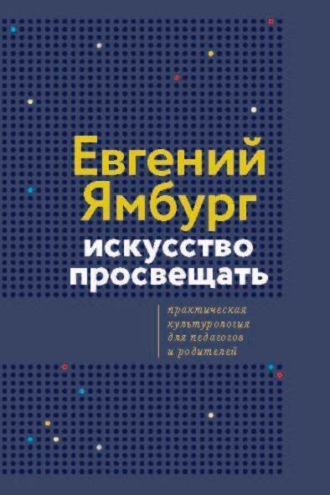
Полная версия
Искусство просвещать. Практическая культурология для педагогов и родителей
Конспирологические версии тех или иных грозных событий, распространяющиеся со скоростью пандемии по всему миру, – результат повсеместно растущего недоверия к официальным средствам массовой информации. В результате наведенного конспирологическими версиями страха невероятно повышается градус агрессии. Специалистам по истории первобытности известны техники, с помощью которых древние племена приводили себя в агрессивное состояние. Вступая на тропу войны, мужчины племени исполняли ритуальный танец войны. Характерно, что дети, женщины и старики в это время прятались в укрытиях. Почему? Потому что воин, впавший в боевой экстаз, превращался в идеальную машину для убийства, сметающую без разбора все на своем пути. Свой или чужой – значения не имело. Но, возвращаясь с победой, мужчины племени исполняли специальный ритуальный танец мира, тем самым приводя себя в нормальное состояние. После чего мирное население безбоязненно покидало свои укрытия.
Сами того не ведая, мы с помощью современных средств массовой информации запускаем первобытные техники невероятной возгонки агрессии. Стоит ли после этого удивляться тому, что подросток (семнадцатилетний подросток в племени – это уже мужчина-воин, владеющий оружием) превращается в убивающую машину? Поэтому в керченской истории не следует утешать себя простым и удобным объяснением, что мы имеем дело с психопатом, которого вовремя не диагностировали. Зададимся лучше прямым и неудобным вопросом: отчего число таких психопатов неизменно растет?
Школа не висит в безвоздушном пространстве; она существует на семи ветрах: идеологических, геополитических, социально-экономических, национальных, конфессиональных, психоэмоциональных, наконец, иррациональных, ибо человеческие поступки не сводимы исключительно к рациональным мотивам. Порой эти ветра приобретают шквальный характер, прогибая школу со всеми ее обитателями (педагогами, детьми и родителями) то в одну, то в другую сторону. Очевидно, что стране необходима длительная педагогическая терапия, в результате которой нам всем предстоит обучиться искусству диалога.
А пока взрослые не образумились, в первую голову надо спасать детей от ненависти. На память приходят стихи Александра Галича, чей столетний юбилей в 2018 году мы странным образом отмечали на первом канале телевидения в глубокой ночи, когда дети и подростки спят беспробудным сном. А зря. В поэме «Кадиш», посвященной Янушу Корчаку, опираясь на дневник праведника, Галич пишет:
Я старался сделать все, что мог,Не просил судьбу ни разу: высвободи!И скажу на самой смертной исповеди,Если есть на свете детский Бог:Все я, Боже, получил сполна!Где, в которой расписаться ведомости?Об одном прошу – спаси от ненависти!Мне не причитается она.[5]Парадоксальный факт – дети и подростки в гораздо большей степени, чем их родители, которые, как правило, сегодня выхолощены на работе, расположены к серьезным разговорам. Их психику не стоит беречь, окружая гиперопекой, скрывая трагические страницы прошлого и настоящего, исходя из превратно понимаемых патриотических побуждений. На этот ложный псевдопатриотический посыл прекрасно ответил Гоголь в «Театральном разъезде»:
«Господин П. Да, это наши раны, наши, так сказать, общественные раны.
Князь N. (с досадою). Возьми их себе! Пусть они будут твои, а не мои раны! Что ты мне их тычешь?»[6]
С детьми надо разговаривать честно. Молчащее поколение проигрывает свою историю, а значит, и будущее.
Но способно ли слово стать целительным средством взросло-детского сообщества? И здесь мы вновь обращаемся к великой русской поэзии, в частности к Н. Гумилеву:
СловоВ оный день, когда над миром новымБог склонял лицо свое, тогдаСолнце останавливали словом,Словом разрушали города.И орел не взмахивал крылами,Звезды жались в ужасе к луне,Если, точно розовое пламя,Слово проплывало в вышине.А для низкой жизни были числа,Как домашний, подъяремный скот,Потому что все оттенки смыслаУмное число передает.Патриарх седой, себе под рукуПокоривший и добро и зло,Не решаясь обратиться к звуку,Тростью на песке чертил число.Но забыли мы, что осиянноТолько слово средь земных тревог,И в Евангелии от ИоаннаСказано, что Слово это – Бог.Мы ему поставили пределомСкудные пределы естества.И, как пчелы в улье опустелом,Дурно пахнут мертвые слова.[7]Все так. И человеку в равной степени нужны и прорывы духа, и здравый смысл, передаваемый с помощью умного числа. А вот мертвые слова действительно дурно пахнут, отвращая своей фальшью и взрослых и детей!
Если дать себе труд подумать, нам есть из чего создавать нужный, полезный и интересный контент для молодых людей, за который ратует национальный лидер. Образно говоря, нам предстоит перейти от бесконечного исполнения ритуального «танца войны» к постепенному освоению «танца мира», приводящего умы и души молодых людей в нормальное состояние, что сделает более безопасным существование окружающих. Надо отдавать себе отчет в том, что запретительные меры, призванные снизить градус агрессии и обезопасить общество от кровавых эксцессов, не только неэффективны и неисполнимы в полной мере в открытом информационном пространстве, но рождают у молодых людей еще больший протест, а следовательно, все ту же агрессию, направленную в адрес мира «не догоняющих» взрослых.
Обостренная жажда справедливости, имманентно присущая подросткам и социально обделенным слоям населения, неизбежно рождает жажду мести. Но месть не имеет ничего общего со справедливостью. Эта неочевидная не только для подростков, но и для многих взрослых людей мысль в равной мере нуждается в доказательствах и в еще большей мере в конкретных примерах.
Философ Г. Померанц писал: «Зло – порождение жизни. Жизнь всегда – отдельная, и, утверждая себя, она душит и поедает другие жизни. Даже деревья – загораживая солнце. Еще больше – животные и птицы. И больше других – человек. Но человек – не только живое существо; он еще существо духовное, образ и подобие Бога, и сознание себя как образа Бога восстает против законов жизни, отменить которые до конца – не может. И все же ноет в груди, как совесть. Кажется, никто не понимал это лучше Тютчева: „И от земли до крайних звезд все безответен и поныне глас вопиющего в пустыне, души отчаянный протест“»[8]. Отчаянный протест души педагога заставляет делать все возможное, чтобы сбить волну агрессии среди подростков.
Исторические травмы – мины замедленного действия
На протяжении жизни мы все наносим друг другу раны, испытывая боль и причиняя ее окружающим. Следы от нанесенных обид ложатся рубцами на сердце, во многом предопределяя поведение человека. Неизжитые исторические травмы также предопределяют поведение целых поколений.
В нашей стране нет ни одного народа, включая титульную нацию, кто не носил бы в сердце историческую травму. Продолжать сравнивать, чья боль больнее, – значит подрывать основы гражданской идентичности, доводя ситуацию до того состояния, которое зафиксировал Владимир Высоцкий в песне, записанной им на грозненском телевидении незадолго до смерти:
Воспоминанья только потревожь я —Всегда одно: «На помощь! Караул!..»Вот бьют чеченов немцы из Поволжья,А место битвы – город Барнаул.[9]Оба народа, как известно, подверглись депортации, но сводят счеты в месте высылки.
Историческая трактовка голодомора как геноцида исключительно украинцев – из того же разряда эгоистичной трактовки общих исторических травм.
Изживание исторических травм – одна из важнейших задач школьных курсов отечественной истории. Отсюда следует важный историко-педагогический вывод, помимо прочего находящий подтверждения в психотерапевтической практике: любые личностные или исторические травмы бесполезно и даже опасно загонять внутрь путем замалчивания. Подобно минам замедленного действия, рано или поздно они взорвутся, чему мы уже были свидетелями на рубеже веков. Люди – и в первую очередь вступающие в жизнь поколения – нуждаются в глубоком осмыслении прошлого.
На первый взгляд, глубокое осмысление прошлого – прерогатива профессионалов. Но здесь речь идет не о мертвой цеховой учености, а о постепенной выработке у юношества мудрого, взвешенного, сострадательного отношения к истории. В этом ракурсе проблема приобретает исключительно педагогическое значение. Для ее решения необходим долгий откровенный разговор на болезненные темы. Самое трудное для педагога – взять правильный тон в таком разговоре, пройти между Сциллой горячего историзма и Харибдой холодного пессимизма. Но именно с учетом главных уроков двадцатого века такой трудный разговор необходим для того, чтобы наши дети не превращались в палачей, подобных керченскому подростку.
Цунами насилия: отражение в прессе
Волны насилия, захлестывающие школы, постоянно находятся в фокусе внимания средств массовой информации. Что естественно, ибо СМИ – зеркало, призванное отражать реальные процессы, происходящие в обществе. Все правильно, замалчивать вопиющие факты агрессии со стороны учителей по отношению к детям и детей по отношению друг к другу нельзя, но худо, когда зеркало становится кривым.
Передо мной письмо серьезного администратора, отвечающего за безопасность в школах в одном из регионов России.
«О СМИ. Они, конечно, должны выставлять перед системой зеркало. Но оно кривеет с каждым днем. По трагическим случаям буквально сочиняются легенды. Только не понимают журналисты, что своими перьями травмируют сердца самих детей, родителей, добивают учителей. И это тоже диагноз. Недавно произошло убийство (вполне возможно, случайное) одного школьника другим. Горе родителей и родных с обеих сторон невозможно измерить. Помолчать бы им (репортерам) всем, но где там! Отсюда и детки с родителями хватаются за диктофоны, видеокамеры смартфонов и спешат-спешат продать сюжет за тысячу. В общем, сошли с ума, и надолго. Вспоминается реплика одной героини из „Женитьбы Бальзаминова“: „Солидные-то люди, которые себе добра желают, за каждой малостью едут к Ивану Яковлевичу, в сумасшедший дом. Спрашиваются… А мы такое дело без всякого совета делаем“».
В нашем взбаламученном социуме действительно необходимо разбираться. Только так мы без уверток и конъюнктурных политических подтасовок сможем внятно ответить на сакраментальный российский вопрос: кто виноват? Такой трезвый подход – дело прежде всего аналитической журналистики, которой, как представляется, сегодня катастрофически не хватает. Меня же, как педагога-практика, прежде всего волнует другой вопрос: что делать?
Любопытно, что в отзывах на свои публикации я чаще всего получаю упреки в том, что недооцениваю агрессивный политический и социально-психологический климат, в котором живут и формируются наши дети, недостаточно бичую пороки общества. Что ж, каждый имеет право на свою точку зрения. Но при всем желании немедленно изменить социально-политический контекст я и те, кто дает этому контексту жесткую справедливую оценку, не в силах. Прикажете пассивно ждать того момента, когда государство и общество изменятся к лучшему? Но школа не супермаркет, ее временно не закроешь на переучет ценностей.
Разумеется, доминирование тоталитарных ментальных установок, укорененных в обществе, – не единственная причина неконтролируемой агрессии подростков. Сведение многослойного явления к одной-единственной причине малопродуктивно. Следует отделять возрастные формы опасного поведения, помня о том, что психологическая взвинченность подростков происходит на фоне эндокринных бурь. Поиск взрослости подталкивает их к экстремальному поведению, проверке себя: «на что я способен». Это и страх быть осмеянным, не принятым в своей возрастной группе, чье мнение для них несравненно важнее оценки родителей, учителей и прочих взрослых, которые «не догоняют». Словом, сложное многоаспектное явление диктует необходимость системного подхода к его анализу.
Знаменательно, что если раньше среди страхов человечества на первом месте был страх смерти, то, как показывают последние исследования, в настоящее время, потеснив страх смерти, на первое место вышел страх бессмысленности жизни. Что в равной степени характерно для богатых и бедных стран, детей и взрослых.
Поменять себя
Так что же делать в данных конкретных обстоятельствах? В поисках ответов на подобные вопросы я больше доверяю художественной интуиции людей тонко чувствующих, искренне болеющих за судьбы отечества. Среди них – замечательный поэт Владимир Николаевич Корнилов, ушедший из жизни в 2002 году. Незадолго до смерти он написал стихотворение, которое я рассматриваю как педагогическую программу, прежде всего обращенную к людям взрослым, но отягощенным неизжитыми подростковыми социально-психологическими комплексами, среди которых патернализм, стремление переложить ответственность за свое существование, включая семью и детей, на государственных мужей.
Подростковые комплексы неизбежны у подростков, которые должны ими переболеть. Но когда ими продолжают страдать люди, достигшие зрелого возраста, трудно надеяться, что они проявят необходимую мудрость и терпение во взаимодействии с тинейджерами.
Считали: все дело в строе,И переменили строй,И стали беднее втроеИ злее, само собой.Считали: все дело в цели,И хоть изменили цель,Она, как была доселе, —За тридевятью земель.Считали: все дело в средствах,Когда же дошли до средств,Прибавилось повсеместноМошенничества и зверств.Меняли шило на мылоИ собственность на права,А необходимо былоСебя поменять сперва.[10]Поменять себя – задача сложная, но выполнимая. Во всяком случае, она не влечет за собой немедленных глобальных революционных (и, как показывает опыт, зачастую связанных с кровавыми эксцессами) преобразований. Ее решение дается детям легче, нежели взрослым. В самом деле, нетерпимые взрослые готовы взорваться по любому поводу. Они с трудом осваивают иные модели поведения, в основе которых – стремление понять другого, не похожего на тебя человека, исходная доброжелательность и умение отличать главное от второстепенного в выстраивании взаимоотношений.
В 2018 году в одной из школ произошел очередной эксцесс, который меня попросили прокомментировать СМИ. Администратор школы не пустил на занятия старшеклассницу, чьи волосы были окрашены в голубой цвет.
Дежавю – привет из советской педагогики. С какими только проявлениями чуждых нам нравов не боролась советская школа: с длинными волосами (под хиппи и битлов) у мальчиков, с макияжем и сережками у девочек, с джинсами и кроссовками Adidas. Тогда появилась шутливая частушка: «Кто носит тапки „адидас“, тот нашу родину продаст». Доставалось и педагогам. Когда я только начинал работать, женщинам в школе категорически запрещалось носить брючные костюмы. Разумеется, как и сегодня, при решении деликатных вопросов использовался не письменный приказ, а настоятельная устная рекомендация. Вспоминаю, как, выполняя распоряжение директора, мужчина-парторг подходил в учительской к молодой учительнице и, краснея от смущения, просил: «Ну ради меня, снимите, пожалуйста, штаны».
Все эти войны мы бесславно проиграли. И сегодня я с улыбкой встречаю в вестибюле школы дедушку моего поколения с длинными волосами и серьгой в ухе (вылитый Пресняков-старший) и молодых тридцатилетних мам с разноцветными прическами, ожидающих своих детей. И вот опять: «на колу мочало – начинай сначала». Как будто помимо цвета волос нам не хватает источников конфликтных ситуаций.
До каких пор мы будем наступать на те же грабли? На память приходит строка из стихотворения И. Иртеньева:
Бьют часы на Спасской башне,Мчится поезд под откос,С Новым годом, день вчерашний!Здравствуй, дедушка склероз![11]Между тем дети чрезвычайно наблюдательны, они мгновенно ухватывают бытовые детали, улавливая атмосферу человеческих отношений. Случилось так, что одна из наших учениц уехала с родителями в Канаду. В письме она рассказывает о поразившем ее случае.
«Вхожу в автобус. На переднем сиденье пожилая женщина примерно лет восьмидесяти странного вида. Часть ее жидких волос окрашена в розовый цвет, а другая – в голубой. Вероятно, и в своем преклонном возрасте бабушка хочет выглядеть прикольно! Каждый новый пассажир, входящий в автобус, считает своим долгом сделать ей комплимент: „Вы сегодня выглядите очаровательно! Вам удивительно идет эта прическа“ и т. д. и т. п. Никаких насмешек, ни одного слова осуждения, не говоря уже об оскорблениях, которые может вызвать внешний вид чудаковатой старушки. Представьте себе эту бабулю и реакцию на нее в вагоне московского метро».
Легко ли быть молодым? Нет, ибо подростковый возраст отягощен колоссальным количеством комплексов, связанных с внешностью, половым созреванием и т. д. и т. п. Взрослые об этом забывают и тешат себя мифами о безоблачном детстве.
Среди тех, кто помнил себя в подростковом возрасте – всемирно известная детская писательница Астрид Линдгрен, автор «Малыша и Карлсона» и «Пеппи Длинныйчулок».
Перелистываю изданную у нас недавно книгу «Ваши письма я храню под матрасом» Сары Швардт – женщины, которая в детстве тайно переписывалась с Астрид Линдгрен. Переписка началась, когда Саре исполнилось всего двенадцать, и продолжалась не один десяток лет. Она была очень трудным подростком: воровала, бывала в психиатрической клинике, сбегала из дома, считала себя некрасивой, глупой, ленивой… И делилась самыми сокровенными мыслями с известной писательницей. «У меня очень плохой почерк», – извиняется девочка. В ответ Астрид посылает ей рецепт от врача, написанный «как курица лапой», и советует научиться печатать на машинке. Так автор «Карлсона» снимает один из комплексов ребенка и ставит ему новую интересную задачу.
Астрид пишет Саре, что в тринадцать лет она тоже считала себя «уродом», дает девочке советы, как вести себя в конфликте с одноклассниками. Сейчас бы это назвали дистанционным воспитанием. Но письма актуальны и сегодня… Эта книга, помимо прочего, – бесценный педагогический источник, прочитать ее, я считаю, одинаково важно как родителям, так и их детям.
Сара, которая стала прекрасной бабушкой, приезжала к нам в школу и рассказала свою историю моим ученицам – таким же страдающим многочисленными комплексами девчонкам, которым очень непросто расти. Это была поистине волшебная встреча. Именно такие волшебные, проникающие в душу встречи с человеком, книгой, Богом во многом предопределяют судьбу человека. От девочки-бабушки исходил особый магнетизм. Его истоки – это предельная искренность в общении с детьми, бодрость духа и вера в конечную победу добра. Наивно? Но с детьми по-другому нельзя.
Такое же волшебное ощущение оставляли встречи с детьми священника отца Александра Меня. Рядом с ним хотелось улыбаться. И когда моих педагогических оснований для того, чтобы вывести подростка из депрессии или, того хуже, суицидального состояния, не хватало, я отправлял подростка к нему. И отец Александр справлялся.
Вывод очевиден: поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же.
Таков наивный, но действенный инструмент, который можно и должно использовать для погашения волны агрессии и аутоагрессии в школах. Инструмент, который вряд ли попадет в очередной обновленный перечень должностных инструкций, призванных решить эту проблему. Нет сомнения в том, что профессионалы, неформально относящиеся к делу, серьезно озабочены вопросом, как остановить эскалацию насилия в подростковой среде. Очевидно, что необходимо немедленно приступать к строительству дамбы, с помощью которой можно будет сдерживать волны агрессии, захлестывающие школу. Но для грамотного возведения столь сложного сооружения необходим серьезный анализ, предполагающий выявление факторов риска, распределение полномочий и ответственности между всеми участниками строительства.
Строительство дамбы: аналитическая работа
После публикации моего материала «Поменять себя (как гасить волну насилия в школах)» в блоге на «Эхе Москвы» 1 декабря 2018 года поднялась встречная волна жаркой дискуссии на эту в буквальном смысле слова кровоточащую тему. Участниками дискуссии выступили как крупные администраторы образования, отвечающие за проблему безопасности детей и учителей в школах, так и педагоги, призванные решать эту проблему на местах. Накал дискуссии выявил людей неравнодушных, вне зависимости от чинов и званий глубоко переживающих за все происходящее в школах. У каждого из вступивших в полемику, безусловно, была своя правда.
Очевидно, что проблема насилия в школах является комплексной, многоаспектной, для своего решения требующей использования управленческих, экономических и других рычагов. С каждого этажа сложного сооружения, именуемого российским образованием, решение этой проблемы видится по-разному. Несомненно, что не существует одного-единственного волшебного инструмента, с помощью которого можно было бы в мгновение ока остановить волну насилия среди детей и подростков. Здесь каждый на своем месте (от министра до педагога) в меру осознаваемой ответственности и отведенных ему полномочий призван внести свой вклад в общее дело.
Непродуктивно лишь перекладывание ответственности друг на друга, руководствуясь непреодолимостью так называемых объективных препятствий, мешающих вовремя отозваться на очевидную детскую боль. С этой точки зрения развернувшаяся дискуссия представляет, как мне кажется, огромный интерес, поскольку позволяет увидеть не только рассмотрение ее участниками проблемы при помощи разной оптики, но и скрытые механизмы самооправдания, выливающиеся во взаимные (часто справедливые) обвинения в адрес друг друга людей, призванных совместно профессионально решать сложнейшую педагогическую задачу.
Но предоставим слово непосредственным участникам дискуссии. Зная, как болезненно и порой неадекватно реагирует наша образовательная вертикаль на высказывание собственной, отличающейся от официальной, точки зрения (особенно со стороны администраторов любого уровня), я сознательно не указываю «имена, фамилии, явки», а в качестве иллюстраций привожу лишь те эксцессы, которые стали достоянием СМИ.
Администратор, отвечающий за проблему безопасности в крупном регионе: «Несколько слов о сути проблемы, которая не дает покоя. Конечно же, история здесь с глубокими корнями. Ваш вывод в конце статьи („поменять себя ребенок способен лишь при помощи взрослого, который стремится к тому же“) очевиден и технологически сложен. Буквально вчера был в той школе, где произошла трагедия. Семиклассник из ружья выстрелил в пятиклассника-второгодника, который, по словам свидетелей, вел себя довольно агрессивно, демонстрировал свое превосходство и, как говорят те же свидетели, „сильно нарывался“. Стрелявший „решил попугать“, зарядил ружье, навел на обидчика и понять теперь не может, как произошел выстрел.
О том, который погиб и „нарывался“, знали давно. Ребенок из крайне сложной семьи. На его глазах мать зарезала его отца (своего мужа) восемь лет назад. Парень, по сути, уже не учился, состоял на всех видах учета, и второгодничество просто добавило ему опыта и выводов о „пользе“ школьной педагогики.
В ходе беседы с учителями, с администрацией я задавал простые вопросы: известно ли им было об агрессивности участников конфликта? Могли бы они снизить уровень агрессии этих детей, зная заранее, чем это может закончиться? Если бы по волшебству можно было вернуть время и начать сначала, то что стали бы делать?
В ответах слышались нотки переживаний, раскаяний, сожалений и… беспомощности. Откуда беспомощность? Впечатление такое, что люди зашорены. Показывают планы массовых мероприятий, расписания кружков, отчеты с количеством проведенных акций, олимпиад, протоколы педсоветов. При этом не смогли показать характеристик на этих двоих детей. Их раньше не вели, не составляли. Я спросил о дневниках педагогических наблюдений – не знают, что это такое. На вопрос о посещении семей, беседах с родителями внятных ответов нет. Попросил у них посмотреть тетради детей. В тетрадках каракули эмоционально неуравновешенных (по сути, больных) пятиклашек (с несформированными орфографическими навыками, с дисграфией) и злющие исправления красной пастой со стороны учителя. На ПМПК[12] никого не показывали. Вот уж где психологическое давление. Показал завучу – стало стыдно. Открыл случайно отчетность – обнаружил таблицу „уровней воспитанности“ с баллами. Где-то взяли дурацкую методику и решили каждому ребенку выставить балл воспитанности по шести показателям. На вопросы об авторе методики ничего пояснить не смогли. Бедняга зам. по воспитательной работе от моих вопросов и увиденного расплакалась. Как мог успокоил ее, пообещал помочь с курсами, с литературой. Слезы у педагога были от души. Но кто-то так и остался уверенным в себе, что все делает исправно: ведет уроки, ставит оценки красной пастой, делает замечания и своевременно пишет отчеты. При этом книг не читают, педагогику сменили на диагностические таблицы, сляпанные на скорую руку неизвестным автором».
С администратором полемизирует специалист по образовательному праву и экономике образования из другого региона. Он выделяет иные ключевые факторы, приведшие к трагедии: «К сожалению, когда идет речь про педагогику, все вдруг забывают про экономику.