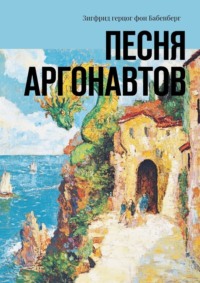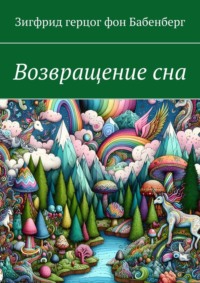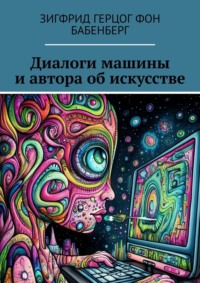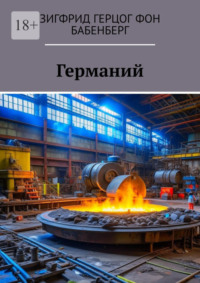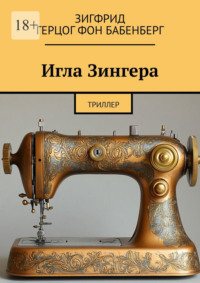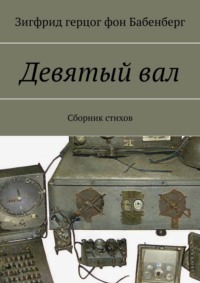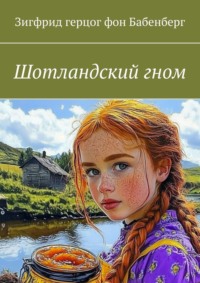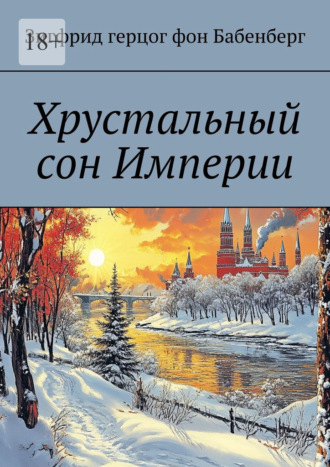
Полная версия
Хрустальный сон Империи
Лжедмитрий: (Громко, целуя руку Марии) Матушка! Благослови сына! Видишь – Бог спас меня от рук убийц Борисовых! Я – Димитрий! Твой кровинушка!
Тишина. Все смотрят на Марию. Ее лицо – маска скорби и страха. Она видит польские сабли за спиной «сына». Чувствует ненависть Шуйских. Помнит Углич… кровь…
Мария Нагая: (Голос прерывается, она ищет глазами поддержки у иконы Спаса – не находит) Сын… мой… (Пауза. Она закрывает глаза, будто падая в бездну) Димитрий… Чадо мое… Чудом спасенное! (Обнимает самозванца, но тело ее деревянное) Господи… благодарю… за чудо.
Бояре ахают. Поляки ликуют. Лжедмитрий сияет. А в углу, тенью, стоит боярин Василий Шуйский (будущий царь), его шепот шипит как змея:
Шуйский: (Соседу) Видал, как мать родную правде изменила? За страх или надежду? Теперь он – «законный». А монастырь сей… (смотрит на гробницы княгинь) осквернен ложью у самых мощей Евфросинии. Горе дому сему!
Тень Вторая: Невеста Змеиная (1606 г. Келья для знатной гостьи)
Келья убрана по-польски богато: ковры, серебряный кубок. Марина Мнишек глядит в зеркальце, примеряя русский жемчужный кокошник поверх польских кудрей. Рядом – панна-служанка.
Марина: (Смеясь) Смотри, Ядвига! Как я похожа на московитскую княжну? Завтра венчание! Я – Царица Всея Руси! А этот… Дмитрий… (брезгливо сморщивает нос) Он воняет луком и хвастается, как лакей. Но трон… трон в Успенском соборе… он пахнет властью!
Ядвига: (Осторожно) Панна… а говорят, он… не настоящий. Что бояре шепчутся. Что народ ропщет…
Марина: (Резко оборачивается, глаза сверкают) Настоящий?! Что есть «настоящий»? Сила – вот что настоящее! Сабли отца, золото Сигизмунда… и моя корона! Пусть он – кукла. Я буду править! (Берет кубок) За Москву! За корону! И за то, чтобы эти дикие монахини перестали креститься, глядя на меня, как на исчадие!
Она отпивает. За окном слышен гул толпы – тревожный, злой. Колокола бьют неровно.
Ядвига: (Пугаясь) Панна… это не праздничный гул. Это… бунт?
Марина: (Холодно) Пусть бунтуют. У моего «мужа» есть стрельцы. А у меня… (гладит рукоять дорогого кинжала) … есть это. Вознесенский монастырь – моя крепость. Пока. Завтра мы войдем в Кремль царицей. Или… (внезапно срывается в шепот) …или эти стены станут нашей последней защитой. Или могилой.
Где-то близко крик: «Измена! Ляхов бей!» Звон разбитого стекла.
Тень Третья: Мать Государева (1613 г. Тихая келья у усыпальницы)
Простота. Чистота. Икона Казанской Божией Матери. Инокиня Марфа (Ксения Романова) неспешно плетет четки. Перед ней – юный Михаил Романов, новый царь. Он бледен, глаза испуганны.
Михаил: Матушка-инокиня… Земский Собор… избрал… Меня. Царем. Я… не готов. Страшно. Руина кругом. Казна пуста. Воры сильны…
Марфа: (Спокойно, без тени удивления) Господь не готовых не избирает, сын мой. Он дает крест по силам. (Кладет руку на его голову) Твой дед, Никита Романович, служил Грозному верой. Твой отец… (голос дрогнул на миг) … Филарет, в польском плену, молитвой держит Русь. Ты – кровь их. И кровь святой Евфросинии, чьи мощи здесь, под спудом. Она Москву от Тамерлана молитвой спасла. Ты спасешь – делом.
Михаил: Но как, матушка? Бояре – как голодные волки… Казаки своевольны… Шведы у Новгорода…
Марфа: (Твердо) Волков – кормить осторожно, но показывать кнут. Казаков – усмирять милостью да землей. Шведов – гнать молитвой и мечом ополченца Минина. (Берет его за подбородок, поднимая лицо) Слушай, Михаил: монастырь сей видел ложь Марии Нагой, безумие Марины. Видел, как падали венцы. Ты – не самозванец. Ты – избранник земли. И я, инокиня Марфа, буду здесь, у мощей, твоим щитом молитвенным. А Филарет… (глаза ее загораются) …Филарет вернется. Патриархом. Он будет твоей десницей.
Михаил: (С надеждой) Ты… благословляешь, матушка? Принять венец?
Марфа: (Встает, ее тень падает на лик Богородицы) Не благословляю. Повелеваю. Служение – не выбор. Долг. Иди. Коронуйся. А я… (смотрит в окно, на купола Чудова монастыря) …я останусь здесь. Белым камнем. Молитвой. Памятью. Чтобы Смута не вернулась. Чтобы призраки Чудова не перешли эти стены.
Эпилог: Белый Камень Поверженный (И Вечная Память)
Монастырь разрушили в 1929-м. Но:
Археологи, вскрывая склепы, нашли парчу цариц – истерзанную временем, но не тленом. Как их души. Тени все еще бродят в музее: Мария Нагая плачет у пустого саркофага – где ей положить свою непрощенную ложь?
Марина Мнишек смеется над витриной с черепком – где ее корона? Где кинжал?
Марфа незримо стоит у списка Романовых – строгая, неулыбчивая, настоящая властительница затвора.
Купола (теперь лишь на старых гравюрах) простираются над Кремлем: Один – осеняет Евфросинию. Другой – пронзен стрелой Марининой гордыни. Третий – держит молитву Марфы, как щит.
Вознесенский монастырь не воскреснет из камня. Но он жив:
– Смотрите, царицы: святость – тиха. Ложь – громка, но коротка. А власть… истинная власть – часто в тени, под белым платком инокини, чья молитва крепче трона. И крепче топора, ломающего стены.
Конец. Аминь?
Нет. Пока стоит Архангельский собор (где лежат цари) напротив места Вознесенской обители (где лежали царицы) – диалог Власти и Веры продолжается. А белый камень в основании Кремля помнит всё: и слезы святой Евфросинии, и жемчуг Марины Мнишек, и суровые четки Марфы Романовой.
ПОКРОВСКИЙ СОБОР: ДЕВЯТЬ ПЛАМЕН НАД ПОЛЕМ КАЗАНСКИМ
(Сказание о храме, что родился из победы и слез)
Пролог: Каменная Молитва
У самой Москвы-реки, где Набатная башня вскинула каменный язык, чтобы кричать о беде – стоит чудо. Не храм – восемь церквей, сплетенных в девятиглавый сон. Каждая глава – иной: то чешуей драконьей, то кокошником девичьим, то пламенем застывшим. Это Покровский собор. Или – храм Василия Блаженного. Его краски кричат о Казанской победе Ивана Грозного. Его стены шепчут кровавые тайны. А его спасение – окутано дождем и молитвой.
Акт Первый: Рождение из Грозы (1555—1561 гг. Леса да помосты)
Дым пожарищ Казани еще стелется над Русью. На рву у Кремля – невиданное: два зодчих, Барма да Постник Яковлев (имена спорны, как тень), творят невиданное. Рисуют в воздухе узлами веревок, режут камень, будто масло.
Иван Грозный: (Приехав на стройку, озирает чертежи, выбитые на влажной глине. Глаза горят) Выше! Пестрее! Чтоб каждый камень пел славу моему войску! Чтоб татарин, глядя, зубы грыз от зависти! Чтоб небо здесь… (ударяет посохом о землю) …сходилось с землею в молитве!
Барма: (Кланяясь, но с достоинством) Будет, государь! Восемь престолов – восьми победам твоим у стен Казани! А девятую главу – Покрову над Русью! Камень заговорит красками. Играть будет, как самоцвет на солнце!
Постник: (Тихо, только Барме) Играть-то будет… да выдержит ли? Такая высь… такая вязь… Грозный государь… не простит ошибки.
Барма: (Сжав руку Постника) Молчи. Сотворим чудо. Или… головы сложим. Иного не дано.
Прошли годы. Собор взметнулся. Народ ахал. Иноземцы крестились. Царь ликовал. Но в главе его – червь подозрения.
Иван Грозный: (На освящении, глядя в восторженные лица зодчих) Барма! Постник! Подойдите! Ваши руки… золотые. Ваши очи… зоркие. Сотворили красоту небесную… а ну как такую ж… да для султана турецкого? Или для короля польского? Чтоб Москва посмеянием покрылась? Хм?
Тишина. Зодчие бледнеют.
Чтобы Покровский собор – был един и неповторим! Камни вскричали тогда немым воплем.
Акт Второй: Призраки Смуты (Начало XVII века. Тени у стен)
Собор видел:
Лжедмитрий I, въезжающий в Кремль под ликование, уже боялся косых взглядов его пёстрых глав – будто они видели его ложь. Марина Мнишек, шествующая на венчание в Успенский собор, засмеялась, указав на храм: «Как весело! Точно пряничный домик для великана! Москва – дикарям не понять красоты!» Но в смехе ее слышался страх. Польские паны, пьяные после грабежа, пытались сорвать драгоценные оклады с икон в нижних церквях, но темнели лики святых, и кони панов шарахались у самых стен, будто натыкаясь на невидимую стену. Ополченцы Минина и Пожарского, идя на штурм Китай-города, молились у его стен – у Покрова, что защитит их от вражеской стали. И пёстрые главы сияли им в предрассветной тьме, как знамение победы.
Голос Собора (Шелест ветра в кокошниках): Видел я царей-самозванцев и цариц-иноземок. Видел кровь на мостовой. Видел страх и надежду. Но стоял. Ибо заложен на крови праведной – казанской. И на слезах… может быть, зодчих. А праведная кровь и невинные слезы – крепче любого камня.
Акт Третий: Наполеоново Бессилие (1812 г. Октябрь. Моросит дождь)
Французские саперы суетятся у подножия. Подтаскивают бочки с порохом. Наполеон стоит поодаль, закутавшись в серую шинель. Глаза его – смесь восхищения и ярости.
Наполеон: (Обращаясь к маршалу) Voyez-vous, c’est une folie de pierre et de couleurs! Une symphonie architecturale! (Видите ли, это безумие из камня и красок! Архитектурная симфония!) Такого нет в Париже! Такого нет в мире! Его надо… увезти!
Маршал: (Растерянно) Mon Empereur… Но как? Разобрать? Каждый камень – часть узора… Это невозможно! Только взорвать…
Наполеон: (Резко) Alors, faites sauter! (Тогда взорвите!) Если не может быть моим… не будет ничьим! Пусть прахом будет этот… этот кошмар варварской фантазии! Дабы не смеялся над классической строгостью Лувра!
Саперы закладывают заряды. Растягивают фитили. Наполеон отъезжает, в последний раз оглядываясь на пёстрое чудо. Вдруг – с неба хлещет ливень. Не дождь – потоп!
Французский Сапер: (Проклиная, пытается прикрыть фитиль плащом) Sacrebleu! Фитиль мокнет! Порох отсыреет! C’est impossible! (Черт возьми! Это невозможно!)
Старая Москвичка: (Стоя на коленях в грязи у стен храма, молится, не обращая внимания на солдат) Господи, Царице Небесная! Покровом Своим защити Дом Твой! Не дай осквернить святыню! Пошли ливень! Погаси злодейский огонь!
Голос из Толпы (Легенда): И услышала молитву Богородица! Ни один фитиль не занялся! Ни один заряд не рванул! Промокший порох лишь горько пах сыростью. Собор стоял, омытый дождем, как слезами облегчения. Его краски в промозглом тумане горели еще ярче – вызовом императору.
Наполеон: (В ярости, глядя на бессильных саперов) La superstition… et la pluie russe! Maudit soit ce pays! (Суеверие… и русский дождь! Проклята эта страна!) Уходим! Пусть стоит их уродливый храм! Он – как их душа: непонятная, упрямая, не поддающаяся разуму!
Эпилог: Вечный Пёстрый Страж
Прошли века.
Имена зодчих стерлись – то ли Барма с Постником, то ли один Постник Яковлев, то ли вовсе неведомый гений. Но разве камням нужны документы? Они помнят страх и боль. Чудо с дождем не подтверждено рапортами саперов. Но каждый ливень у Покрова – москвичи шепчут: «Смотри, Василий Блаженный плачет… и снова спасает себя». Сам собор – пережил пожары, реставрации, советские гонения. Стал символом России – такой же яркой, сложной, неукротимой и чудесно непредсказуемой.
Голос Камней (Сквозь шум туристов и звон колоколов): «Я – Память. Память о громе пушек под Казанью. Память о слезах, быть может, пролитых творцами. Память о страхе Наполеона перед тем, что он не мог понять. Я – не совершенство. Я – буйство. Я – дерзость. Я – молитва в камне. Я стою у Набатной башни. Пусть башня кричит о беде. Я же буду кричать о вечности. Пёстрым, как душа этой земли, пламенем, что не погасить ни дождям, ни войнам, ни времени.»
Митрофан Воронежский: Святой, Корабел и Упрямец
Жил да был в селе Антилохово (ныне Ивановская область) паренек Михаил. Родился в 1623 году, в семье священника. Жизнь шла своим чередом: женился, сына родил, служил где-то на приходе. Но в 40 лет судьба круто развернулась: Михаил овдовел. Горе-горем, да и подумал он: «А не пора ли душе о Боге подумать всерьез?» И шагнул Михаил в монахи, став Митрофаном в тихой Золотниковской пустыни.
От Игумена до Владыки: Трудный Путь на Юг
Строгий Настоятель: Молва о его благочестии и хозяйственной хватке разлетелась быстро. То в Яхромском монастыре игуменом поставили – храм новый выстроил! То в славный Унженский Троицкий монастырь (любимец царей!) перевели – опять храм каменный возвел, да с колокольней! Человек он был деловой: и патриаршие поручения исполнял (книги проверял, церкви инспектировал), и десятиной (целым церковным округом!) управлял. Не монах-затворник, а управленец от Бога!
Вызов Принят: В 1682 году – новый поворот. Только что учреждена Воронежская епархия. Край дикий, окраинный! Народ вольный, «по своей воле» живущий. Старообрядцы прячутся. Храмов мало, священники неграмотные. Кому такое «счастье» достанется? Выбор пал на опытного Митрофана. Прибыл он в Воронеж в конце лета 1682 года – и ахнул. Задачи – горы!
Воронежский Архитектор Душ и Храмов
Хозяин: Первым делом Митрофан – хозяйственник. Границы епархии очертил. Вместо обветшалого Благовещенского собора заложил новый, каменный, пятиглавый красавец (самое большое здание в городе тогда!). Храмов стало почти 250 – в два раза больше! Монастыри основал, в других порядок навел. Деньги епархии считал пуще своих (хотя своих-то у него и не было!). Пастырь: Но главное – души. Боролся с невежеством и расколом. Проповедовал просто и ясно. Школы в селах открывал (учителями часто были малороссы – грамотные!). Священников защищал от притеслений мирян, но и сам с них строго спрашивал. Дом его был открыт для всех: «странникам гостиница, болящим врачебница, убогим место упокоения». Настоящий отец своей огромной, неспокойной паствы.
Митрофан и Пётр: Дружба-Вражда у Верфи
Союзник Корабелов: А тут еще молодой царь Пётр I в Воронеже флот строит! Для Азова! Святитель Митрофан – первый помощник. Проповеди в поддержку говорит. Казну епархийную щедро на корабли жертвует (огромные суммы!). Ходатайствует, чтобы монастырские повинности уменьшили – и Петр, уважая владыку, идет навстречу! Казалось бы, идиллия. Бунт на Коленях: Но однажды… Петр зовет Митрофана во дворец. Владыка приходит – и видит во дворе… статуи античных богов! Украшение по царской воле. Митрофан разворачивается – и домой! Посланцы царя: «Иди!». Владыка: «Пока идолы стоят – не войду!». Царь в ярости: «Не придешь – казнить велю!». И слышит в ответ: «Жизнью твоей властен, государь. Но негоже православному царю языческих кумиров ставить да народ соблазнять!». Тишина. Гроза… А потом – Петр статуи убрать велит. Митрофан приходит благодарить, но в завещании своем позже строго-настрого накажет: Берегитесь чужеземного влияния! Удивительный союз: царь-реформатор и консервативный епископ, уважавшие друг друга за принципиальность и честность.
Уход Святого Старца и Вечная Память
Последние Дни: В августе 1703 года 80-летний владыка слег. Перед смертью принял схиму с именем Макарий (в память об Унженском монастыре). «А келейных денег у меня нет… не имам в келии своей ни злата, ни сребра», – написал он в завещании. Умер 23 ноября 1703 года. Царские Почести: Петр, узнав, спешно примчался в Воронеж. Отстоял панихиду. А потом сказал потрясенной толпе: «Стыдно нам будет, если мы не засвидетельствуем нашей благодарности… Итак вынесем его тело сами!» И царь-исполин сам понес гроб простого монаха-епископа. У опущенной могилы в Благовещенском соборе вздохнул: «Не осталось у меня такого святого старца». Святость и Память: Люди не забыли своего владыку. Чудеса у гроба множились. В 1832 году Церковь торжественно причислила его к лику святых. Мощи его (хоть и не «нетленные» в буквальном смысле, но глубоко почитаемые) стали центром паломничества. Пережили и вскрытие 1919 года, и скитания по музеям, и теперь покоятся в возрожденном Благовещенском соборе Воронежа. Он Везде: Именем Митрофана Воронежского названы: Храмы и монастыри (от Воронежа до Петрозаводска и Самары!). Памятники (в Воронеже, Самаре, а в 2024 году открыли совместный памятник Митрофану и Петру I на Адмиралтейской площади Воронежа!). Гимназии (Воронежская православная гимназия). Музей («Святые покровители Воронежа», 2024).
Чем же так поражает Митрофан Воронежский?
Сила Духа: Не испугался ни дикого края, ни гнева самого царя. Любовь к Людям: Открытый дом, забота о сирых и убогих, борьба за образование. Хозяйственная Мудрость: Превратил захолустную епархию в процветающую. Верность Принципам: Даже перед угрозой смерти не пошел против совести. Уникальные Отношения с Властью: Умел и помогать государю в великом деле (флот!), и резко осудить то, что считал грехом (идолы!), заслужив при этом не страх, а глубокое уважение.
Он был настоящим патриотом и земли Воронежской, и Веры Православной. И память о нем, как и его мощи, прошла сквозь века, войны и безверие, чтобы напоминать нам о силе духа, вере и любви к людям. Вот такой был святитель – и корабли строил, и с царями спорил, и святым стал!
СЕРАФИМ САРОВСКИЙ: ЛЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ
(Сказание о старце, который носил рай в кармане)
Пролог: Тайна Соснового Бора
Глухие леса за Саровской обителью. XIX век на дворе – век пара и прогресса, а здесь время течет, как смола по коре вековой сосны. Здесь поселился дух, не знающий суеты. Подвижник, чьи слова были тише шелеста хвои, но достигали сердец громче царских манифестов. Имя его – Серафим («Пламенный»). Но пламя его – не пожар, а тихий свет неугасимой лампады.
Акт I: Подвиг Молчальника (Годы затвора. Келья-пещера)
Маленькая избушка в лесной чащобе. На пне – черный хлеб да вода в горшке. У двери – топор с зарубками (память о разбойниках, что изувечили его, но были им же прощены). В углу – гробовой камень вместо кровати. Серафим не говорит ни с кем. Лишь на дощечке пишет: «Молюсь».
Разбойник: (Врываясь с топором, тогда еще юному иноку Прохору – так звали Серафима в миру) Где деньги, чернец?!
Серафим: (Складывая руки на груди, без страха) Возьми. У меня только крест. (Он чудом выжил после побоев, но навсегда сгорбился. Разбойники, видя его кротость, пришли каяться. Он простил: «Бог простит». )
Братия обители: Отче! Зачем затвор? Мир нуждается в твоих речах!
Серафим: (Пишет на дощечке) «Слова – как листья. Шумят, но корня не дают. Молчание – корень молитвы. Сначала – стяжи дух мирен, потом – других наставляй».
1000 дней и 1000 ночей он молится на гранитном валуне в чаще: «Боже, милостив буди мне, грешному!» Зимой – в снегу по пояс. Летом – под ливнем. Камень стал теплым от слез…
Акт II: «Радость Моя!» (Открытая келья. Толпы народа)
Через 15 лет затвора он выходит. Не как строгий аскет – как ласковый дедушка. В старом белом балахончике («Сирый Серафим»), с котомкой сухарей за плечами. Встречает всех:
Купец: Батюшка, дела горят! Убытки!
Серафим: (Кладет ему в руку сухарик) «Радость моя! Не тужи! Торгуй честно – Господь управит. А убытки? Это Ангел твой-хранитель крылом отмахивает беду худшую!»
Крестьянка: Дочка болеет, помри!
Серафим: (Целует ей лоб) «Христос Воскресе, матушка!» (И дитя выздоравливает). Скептик-интеллигент: Есть ли Бог, отче?
Серафим: (Берет за руку, ведет в лес. Указывает на муравейник, на сосну, уходящую в небо, на пчелу над цветком) «Вот тебе и три ответа, батенька. Вера, Надежда, Любовь. А большего и не надо».
Его «лесное богословие»:
Про медведицу: К нему ходила дикая медведица. Он кормил ее хлебом: «И зверье чувствует любовь. Не бойся тварей – бойся зла в себе». Про деньги: «Стяжал рубль – потерял покой. Стяжал дух мирен – обрел Царство Небесное». Про скорби: «Велик Господь! И тернии – цветы Его. Спасись сам – и вокруг спасутся тысяча».
Акт III: Преображение в Свете (Беседа с Мотовиловым. 1831 г.)
Зима. Лесная поляна. Николай Мотовилов (дворянин) сидит на пне. Серафим стоит перед ним – и вдруг озаряется светом, ярче солнца. Воздух теплеет, снег тает, запах весны…
Мотовилов: (В ужасе и восторге) Отче! Что это?!
Серафим: (Лик сияет) «То благодать Святого Духа, радость моя! Цель жизни христианской – в стяжании Духа Божия. Пост, молитва, милостыня – лишь средства. А вот Он – сам Свет Пасхи, в сердце живущий!»
Мотовилов: Как же стяжать Его, отче?
Серафим: «Люби. Молись без числа. Прощай сразу. Воскресай в радость каждое утро: „Христос Воскресе!“ – вот и вся наука».
Этот разговор – духовное завещание Серафима всей Руси.
Эпилог: Уход в Вечность (1833 г. Келья у иконы «Умиление»)
2 января. Он стоит на коленях перед иконой Божией Матери «Умиление» (которую называл «Радость всех радостей»). В руках – свеча. Лик спокоен. Умер в молитве, как жил. Нашли его с улыбкой. В кармане – сухарики для птиц да Евангелие.
Посмертное Чудо:
Его мощи обрели нетленными в 1903 г. при Николае II. Дивеево – основанный им женский монастырь – стал «земным уделом Богородицы». Слова его, записанные простыми людьми, лечат души вернее лекарств: «Спасись сам!»
«Христос Воскресе!»
«Радость моя!»
Голос из Сарова (Шёпот ветра в соснах): «Не ищите меня в мощах. Ищите – в тишине утренней молитвы. В терпении малой немощи (как мой горб). В щедрости последнего сухарика. В умении сказать «Христос Воскресе!» даже сквозь слезы. Я не уходил. Я сменил келью на сердца верных. Пока вы любите – я здесь. Пока прощаете – я говорю: «Радость моя!»
Аминь. И вечная радость. Каждому, кто, стоя у его иконы с медведем, вспомнит: святость – не в чудесах. Она – в простом умении видеть Христа в каждом встречном. Даже если этот встречный – разбойник… или медведица.
Малые Семьи в Большой Тюрьме
Как тайные монахини шили небо в подполье, а бухгалтер Зосима вёл счёт вечности
I. ЗНАМЕНСКИЙ СКИТ
(Москва, 1947 год)
Матушка Евпраксия (разворачивая икону из обёрточной бумаги): – Тише, Ксеньюшка! Соседи за стеной – как чекисты на исповеди. Монахиня Ксения (прислушиваясь к шагам на лестнице):
– Это не соседи… Это отец Никита с картошкой. Говорит, «мирская десятина» – лучшая маскировка.
В крохотной комнатке пахло воском и щами. На столе вместо лампадки – коптилка из гильзы. Архимандрит Никита, бывший зек Колымы, ставил мешок:
– Принято считать: монах бежит от мира. А мы… – он вынул просфору из-под вороха картофелин, – мир превращаем в келью без стен.
Евпраксия (крестясь на образ):
– Батюшка Игнатий завещал: «Молитва в утробе Левиафана – самый сладкий фимиам». За окном завыла сирена «скорой». Ксения вздрогнула:
– Опять кого-то…
Никита (разрезая просфору):
– Не «кого-то». Брата нашего во Христе. Молитесь.
II. БУХГАЛТЕР ЗОСИМА
(1953 год, контора «Главмука»)
Архимандрит Зосима в миру – Иван Петрович Нилов, главный экономист. На столе:
– Счёты – для муки, – Чётки – для души.
Секретарша Мария (заглядывая в кабинет): – Иван Петрович, вас в партком… Опять за «занижение плановых показателей». Зосима (поправляя пиджак поверх подрясника): – Скажи: «Осилим, как всегда».
В парткоме ему тыкали пальцем в отчёты:
– Нилов! Вы что, верите в «чудо-урожай»?
Зосима (тихо):
– Верю в чудо. Без кавычек. Вечером в подвале того же здания, где хранилась мука, он служил литургию на картонном «престоле». Монахиня-швея Анастасия шептала:
– Батюшка, как вы цифры с молитвой совмещаете?
Зосима (разливая вино из аптечного пузырька):
– А ты как иголку с молитвой совмещаешь?
III. ПОСЛЕДНИЙ СОВЕТ (1978 год, квартира протоиерея Бориса)
Матушка Игнатия (разворачивая письмо 1935 года): – Отец Пафнутий… батюшка Игнатий писал: «Небесная семья не знает тюремных решёток». Мы дожили!
Иеромонах Пафнутий (бывший иподиакон, теперь – старик с тростью):
– Дожили. Но Знаменский скит… после Евпраксии и Ксении – опустел. Он подошёл к окну. Внизу гудел проспект Калинина.
Игнатия (подавая ему чётки):
– Что теперь делать?
Пафнутий (глядя на новостройки):
– То же, что и они. – Кивнул на стройку. – Класть кирпичи. Только не домов… Царствия Небесного.
Он достал из шкафа деревянную чашу – последний дар зосимовских старцев:
– Возьми. В ней – хлеб с картошкой Никиты, слёзы швей Анастасии, отчеты Зосимы. Наша Евхаристия.
ЭПИЛОГ: высокоПЕТРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ (Наши дни)
Молодой послушник (разбирая архив): – Отче, а правда, что матушка Игнатия работала… ночным сторожем?
Игумен (показывая на выставку: пиджак Зосимы, ножницы швеи, чашу):
– Не сторожила. Она хранила время. Когда небо прятали в подполье. Он открыл дневник Игнатии на странице с засохшей картофельной кожурой:
«10.02.1959. Сегодня Зосима сказал: – Наш монастырь – не стены. Это – очередь в булочной, где каждая крошка хлеба становится частицей Тела Христова. Я спросила:
– Осилим?»
Он улыбнулся:
– Уже осилили
Послушник (трогая кожуру):
– И что… это и есть духовная радость?
Игумен (зажигая лампаду):
– Нет. Духовная радость – это когда читаешь их историю и понимаешь: твоя очередь в банке или метро – продолжение их литургии.