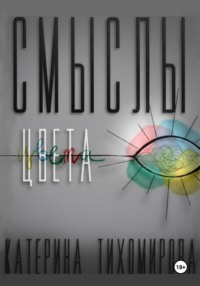Полная версия
Пределы маски
В буддийских монастырях Тибета родилась мистерия Цам (появившаяся затем в индийском Непале и Бурятии (мистерия Тцам)) – ежегодный предновогодний (по восточному лунному календарю) ритуал очищения, презентирующий существование бога на земле и отгоняющий злые силы от последователей буддизма. Мистерия включала в себя песнопения и танцы. Актеры наряжались в яркие костюмы и маски, разыгрывали мифологические буддистские сюжеты. Считалось, что с маской на лице актер уже не просто человек, а воплощение божественной энергии и силы. Среди персонажей были не только светлые герои, но и демоны (например, известная маска демоницы с львиной головой или маски Якка – злых сил). Также были представлены в наборе для Цам и зооморфные персонажи – тигров, львов, яков, быков, овец с мистическими деталями, человекоподобные маски с утрированными чертами – приплюснутым носом, выпученными глазами, напряженными носогубными складками. Главным персонажем служила маска бога смерти, царя справедливости и хранителя веры Яма. В отличие от китайских масок, создаваемых из многообразных материалов, тибетские делались в большинстве своем из кожи и меха, что очевидно связано с отсутствием древесины в горах и приоритетом скотоводства, а в поздние эпохи появились маски из кости. Цвета для масок Цам подбирались в соответствии с принятой сакральной символикой: желтый означал знание и благо, белый – нежность, доброту, красный – великие достижения.
Кроме религиозной сферы китайского Востока, маска как вещь присутствовала и в повседневной жизни. Прежде всего, в искусстве грима. Каждому члену китайского общества предписывались правила внешнего вида, касающиеся одежды, прически и лица. Макияжем пользовались и мужчины, и женщины. Наиболее ярко искусство макияжа как маски проявилось в профессии цзи (гейши). Женщины должны были для создания гармонии мужского и женского уделять внимание не только знаниям, физическим умениям, но и лицу. Его покрывали кремами, толстым слоем воска, меловой или рисовой пудрой. Тем самым, создавалась «фарфоровая» кожа – утонченная для утонченных (загар на Востоке никогда не был модным). Далее на белой маске рисовали брови (30 видов изгибов), губы и глаза (уменьшали), придавая чертам «правильное» выражение. Тот, кто имел средства для создания декоративно-косметических масок, кто обладал мастерством и правом лицезреть макияж Другого, считался полноправным членом китайского социума.
Знатным женщинам также, как и «опавшим цветам» (цзи – гейшам), отводилась своя декоративная роль (матери, хранительницы дома, спутницы мужчины). Их лицо должно было этой роли соответствовать – выражать бесстрастную покорность и «магию» красоты. Но женщины замужние не имели права носить яркий макияж. Только в особо торжественных случаях в знак чистоты и добродетели удаляли волосы, обильно покрывали косметикой, чтобы нарисовать должные эмоции и покрывали его красной вуалью. Такими случаями были свадьбы, приемы при дворе или у значимых политических деятелей.
Женская одежда тоже выступала маркером состояний и статуса и имела масочное содержание. Кимоно носили только с соответствующими ситуации узорами: бабочки означали влюбленность, пара уточек – супружество, нарциссы – зиму, пионы – весну, лотосы – лето, хризантемы – осень; были и сюжетные росписи плательных тканей.
Мужской внешний вид также должен был соответствовать предписаниям и правилам. Существовали нормы в одежде, касающиеся цвета, кроя платья, длины рукавов (самые длинные носила знать, как и в западной культуре этого периода), нормы для причесок – плетение кос, жгутов, выбривание. Лицу мужчины полагалось «иметь» нужное выражение – бесстрастное, мужественное. Если необходимых черт не доставало, то их дорисовывали тушью в виде длинных полос на лбу, щеках и др. Эти ухищрения служили масочной презентацией тела и Я, так как представляли собой стереотип внешнего, ожидаемый культурой, за которым должно было стоять такое же ожидаемое другими Я.
Наибольшее количество вещных масок преобладало в китайской театральной традиции. Театр Китая можно разделить на пекинскую и провинциальные разновидности. Истоки театра, как и в других культурах, находятся в религиозных культах (шаманизме, тотемизме, культе предков, бон, конфуцианстве и буддизме) и мистериях. Однако, популярность мифов, сопровождающих религиозные течения, их красочная представленность в понятных всем костюмах, масках, музыке и тексте, породила десакрализованные формы представлений с элементами фарса и циркового мастерства для профанной аудитории – земледельцев и горожан. Сначала они разыгрывались для того, чтобы отметить важные события сообщества (общины, города) – начало или конец земледельческих работ, военные победы и т.п. Постепенно театр обрел профессиональный состав и к V веку нашей эры стал популярным развлечением для знати [75]. Простолюдины, благодаря фарсам и драматическим представлениям, получали сведения об истории, литературе, так как не владели доступам к письменности и образованию.
К VII веку в Китае появился жанр фарса (цзань-цзюнь – на сюжет о простаке и неловких ситуациях), в XI веке к нему добавились танцы, песни, диалоги (наньси). Среди масок этих провинциальных драматургических направлений были такие как: мыньлян (историко-литературный образ царства Сун) – с геометрией полос в красном и белом цвете, рыжими длинными усами; хуан-ши-дза-тау – фантастическая собака или лев (подобный образу японской Шицза); люцуй – фантастический антропоморф; царь обезьян, а также образы военных, чиновников, божеств, духов и демонов. Маски делали из дерева, кожи, шерсти, глины, промасленной бумаги, высушенных свиных пузырей. По форме они также различались: шлемовидные (на всю голову), ручные (с ручкой – держать время от времени), накладки на шнурах.
Пекинская профессиональная драматическая опера появилась только в XVIII в. И оперой в западном смысле ее сложно назвать, потому что в эту традицию включены акробатика, цирковое мастерство и речитация. Из-за обилия физических элементов актерам пришлось отказаться от тяжелых масок, которые своим весом мешали выполнять акробатические кульбиты. Потому в Пекинской опере появилось искусство сложного грима, накладывание которого должно было имитировать маску (среди актеров распространилось состязание на самого быстрого сменщика грима; есть упоминания об актере, который сумел поменять 50 «лиц» за минуту).
Грим оперных актеров отличался по рисунку и цвету. Каждому образу пьесы и его состояниям (чувствам, направленности мыслей, социальному положению) должны были соответствовать разные вариации грима и костюмы (особое внимание уделялось длинным белым рукавам). Золото и серебро предназначались для сверхъестественных персонажей, желтый и белый символизировали хитрость и подлость, красный – честность, черный – храбрость, синий – решительность.
Образы подразделялись на пять основных типажей [200]:
– Шэн – мужчины (лаошэн – старики, сяошэн – юноши);
– Дань – женщины (циньи – выдержанные, хуадань – активные героини);
– Цзин – мужчина-герой;
– Мо – выживший из ума старик;
– Чоу – буффонный персонаж
Несколько слов необходимо сказать о соседних Китаю культурах в ракурсе рассмотрения вещной природы маски – тайской, корейской и вьетнамской. В отдельный раздел работы мы это не выделяем, так как материала для детального изучения крайне мало.
Культура Тайланда испытала на себе значительное воздействие индийской и китайской. Как следствие, в ней проявили себя характерные для них культурные доминанты обожествления природы, приоритет этических ценностей, общинность и другие. Поэтому мы обнаруживаем в тайской культурной традиции, связанной с маской, корни синкретических религиозных тотемистических культов, отголоски индуизма и буддизма, а также культ предков. В ритуалах, мистериях специфических религий Тайланда и сопровождающей их атрибутике наличествовали маски богини любви (в красном и золотом цветах)Тримурти со свитой и антагонистами-демонами, богини плодородия Таптим, бога тьмы Раху (черный и золотой цвета масок, жертвенных подношений и другой атрибутики), маски Будды (традиционное сакральное украшение жилища), а также маски зооморфов и антропоморфов: слонов, тигров, крокодилов и иных фантастических существ. В повседневной жизни тайцы также использовали маску как вещь – для придания красоты лицу в виде ухищрений макияжа.
Корейская культура насчитывает около пяти тысячелетий. Несмотря на политическое разделение на север и юг, Корея имеет много общих (и на севере, и на юге) аутентичных культурных ценностей. Вещные маски встречались в религиозных культах и мистериях (шаманизм, культ предков, родственный конфуцианству, буддизм). Среди религиозных обрядов с использованием масок были распространены многочисленные изгнания в «медицинских» целях – духов, демонов; похоронные и свадебные ритуалы. Яркие шествия в масках приурочивали к обрядам плодородия – Чусок (с образами божеств природы и урожая) и новому году – Соллаль.
Вьетнамская культурная традиция основана на системе подчинения младших – старшим, клановости, общинности. Религии представлены анимистическими верованиями, культом предков, даосизмом (каодай) и буддизмом (хаохао). Мистерии и ритуалы поклонения природе являли собой традиционные музыкально-танцевальные действа с песнями и речитациями на мифологические сюжеты. Среди главных обряды, посвященные богу грома Тхан Сету, воды Тхан Ныоку, земли Тхан Дату, риса Тхан Люа, преисподней Зием Выонг [135]. Во Вьетнаме образовалась и получила развитие театральная традиция, схожая с китайской по формам, стилю и масочным образам. К основным направлениям можно отнести театры буффонады и фарса тео и вонгко, оперы туонг и кыйлыонг, в которых представлены многообразные персонажи-маски. Материалом для создания масок служили кокосовые скорлупки, дерево, глина и др. Цвета масок соответствовали маркировке значимых цветов в социуме: золотой – цвет божеств и императора, красный и его оттенки – цвета демонов, духов и знати, черный, коричневый и белый – для простых людей.
Таким образом, особенности становления и реализации маски как вещи в китайской культуре и близким ей тибетской, корейской, тайской и вьетнамской показывают, что социальные и психологическая характеристики Я, выраженные в масках-типажах, оказались напрямую связаны с доминантами этой культуры: созерцательным характером обожествления природы, ритуализированной этикой, традициями общинности и подчинения единого многому (Я – государству).
1.3. «Майя» действительности, «сансара», «мокша», «нирвана», «дхарма» и «карма» как «краски» для масок Индии
Индийская культура относится к типу культур Востока по основным своим компонентам: ирригационному характеру хозяйствования, традиционализму, цикличности восприятия времени, общинности, эстетической и созерцательной специфике рефлексии в отношении к миру, Я и Другому. Культурные доминанты сформировались под влиянием природно-климатических (влажный, жаркий климат, гористая местность), этнополитических (этническое многообразие, миграции, периоды междоусобиц, военные конфликты и экспансии) особенностей.
По времени возникновения Индию считают одной из древнейших культур в мире. У ее истоков стоит цивилизация Хараппы (3–1,5 тыс. до н.э.), основанная дравидами. Последующие периоды культур-истории Индии принято делить на ведический (по факту возникновения ведизма и брахманизма, их расцвета, влияния на сферы жизнедеятельности и итогового кризиса – 1,5–1 тыс. до н.э.), буддийский (возникновение буддизма, попытки создания единого государства Ашоки из династии Маурьев – 1 тыс. до н.э. – II век н.э.), классический (стабилизация религиозной, правовой, экономической и социальной систем, «золотой век» династии Гуптов – II–V вв.), средневековый (начало захватнических войн и колониальных движений – V–XIX вв.), новейший (период движения к суверенитету и его обретение – XX–XXI вв.) [217].
Основы вещной представленности индийской маски, как и масок других древних культур, необходимо искать, прежде всего, в религиозных традициях, так как именно они на первых этапах становления культуры отразили сущность рефлексии Я на мир, в рамках которой далее происходило продуцирование конкретных культурных продуктов (феноменов, явлений, артефактов в их секуляризованных для сферы повседневности форм).
Центральными понятиями для практически всех религиозных культов Индии выступали понятия: дхармы – долга, кармы – последствий поступков, сансары – веры в перевоплощение душ и мокши – веры в освобождение от перерождений. Эти категории имеют общие корни в ведизме и брахманизме, специфические выражения в буддизме и индуизме, также они отчасти представлены и в многообразных индийских анимистических религиозных представлениях как Северной, так и Южной Индии. Особо интересным для нашего исследования идеи маски и ее вещной представленности является понятие сансары. Идея метемпсихоза (сансара, реинкарнация, палингенесия [217]), свойственна большинству философско-религиозных индийских учений – представляет собой веру в перевоплощение душ, переход Я из формы в форму, смену внешних оболочек, «переодевание», в котором человек проходит путь поиска настоящего себя. В рамках учения о сансаре раскрыта идея о том, что нет постоянного внешнего, что любое постоянство – результат работы над собой и результат познания. Абсолютное постоянство для человека сложно достижимо, ибо это атман – вечная духовная сущность, абсолют осознающий. Внешние формы для Я – оболочки, которые даются человеку в качестве оценки за совокупность бытийных действий – поступки и движения мыслей. Внешнее в учениях о метемпсихозе – маски, которые предзаданы человеку по закону воздаяния, и они – обязательная часть пути познания человеком самого себя.
Категория «долг» в индийской религиозности отличается от подобных категорий Китая и Японии, в которых она носит больше практический характер социального значения, этического императива для членов общности. Конечно, японское «гири» необходимо для гармоничного бытия мира и человека, но в японской и китайской культурах этот «долг» первичен в отношении других людей. Индийская же дхарма – закон, важный для космического миропорядка, в который индивидуально вовлечены люди со своими страстями; дхарма выражена в истине, чистоте, ненасилии; дхарма – часть бытия, составленная из благих и не благих намерений, волений, ощущений и пр.; через преодоление авидьи (незнания) – познание и приятие изменчивости дхарм (прекращение страданий, желаний, ограничений), срыванию покровов майя (череды иллюзий, соблазнов – идеи маски бога на универсуме) с мироздания можно перестать быть и достичь мокши (индуизм; в буддизме – паранирваны). Так, идея маски оказалась вплетена в основы религиозных направлений Индии в качестве центральных для них категорий. Необходимость их наглядного пояснения обусловила становление визуальных явлений – ритуалов и мистерий, сопровождаемых соответствующей атрибутикой – костюмами и масками.
Большинство индийских верований имеет мистериальные традиции, которые связаны с молитвенными и жертвенными ритуалами [217]. Некоторые из них рассказывают истории о богах в масках и о масках: например, миф о Шиве, создавшем льва с большой головой и маленьким телом; фантастическое животное периодически испытывает божественный голод и требует жертв, Шива разрешает есть «льву» свое тело, от которого в процессе остается только маска. Маска эта не проста. Она – символ начала и конца, круговорота, самопожертвования и т.п. Или, например, в провинции Асам были (и есть) распространены праздники в честь Вишну и его аватара Кришны. Драматическое действие в масках – бхаон – повествовало о деяниях Кришны – синелицего покровителя пастухов, женщин, храброго воина и пр. Бхаон – сочетание танцев, музыки, молитвенного речитатива и проповедей. Большинство мастеров масок были монахами и передавали традиции создания артефактов от эпохи к эпохе. Лучшими материалами для масок мистерии Вишну в Асаме признавался бамбук или тростник, так как маски выполнялись в шлемовидной форме, соответственно должны были иметь небольшой вес для ношения в танце. Из стеблей плели основу, на которую в технике папье-маше наклеивали кусочки ткани, затем конструкцию сушили и окрашивали. Деревянные маски, которые тоже иногда используются в бхаоне, служили продолжением храмовых скульптурных изображений божеств. Они рельефны, выразительны, но слишком тяжелы из-за размеров и материала.
В Южной Индии издревле существовала вера в духов – бхутан, насылающих страшные неприятности. Умилостивить их можно было только с помощью человеческих жертвоприношений. В округе расставлялись масочные изображения бхутан, рядом с ними разыгрывались жестокие мистерии [76]. Некоторые регионы трансформировали древние культы бхутан в индуистские, например богини Кали – любительницы человеческих жертв.
Некоторые религиозные обряды включали в себя элементы мистерий, во время которых, так или иначе, использовались маски. В качестве примера стоит привести пуджу, которая в индуизме выступает выражением почтения божествам. Участники действа ставили посредине площадки (как модели мироздания) дерево (знамя Индры – демиурга, царя богов). Число столбов в основании «сцены» равнялось четырем, что соответствовало сторонам света и количеству варн. Возведение храмовых сооружений для подобных «пьес» сопровождалось обрядами, приношениями даров. В ходе пуджи совершалось поклонение божествам сторон света (локопалам) с танцами, песнями в костюмах и масках. Затем сакральную сцену разбирали, чтобы не нарушить мировой порядок [107].
Постепенно индийские мистерии, также как в Японии и Китае, профанизировались. В ход «пьес» стали включаться выступления фокусников, акробатов, ната («забавников»). В храмах появились сказители – чакиары, затем к рассказам добавились танцоры. Так, в начале нашей эры (около I века) в провинции Керал появилась индуистская театральная традиция кудияттам. Сакрально ее связывают с Вишной, принявшим образ прекрасной девы, которая танцем отвлекала демонов от напитка бессмертия – амриты. Этот сюжет один из главных для представителей традиции кудияттам. Актеры танцевали в масках, изображающих демонов, божеств (Шива – творец и разрушитель, Индра – войны, Ганеши – бог мудрости, Агни – бог огня, Варуна – судья, Ваю – бог ветра, Кама – бог любви, Хануман – бог-покровитель обезьян), животных (рыба, черепаха, вепрь, лев – аватары Вишну). Маски в традиционных цветах: Вишну – хранитель мироздания, солнце с синим лицом, Лакшми – супруга Вишну, богиня счастья, любви и красоты в красном и золотом, демоны с красными носами. Кудияттам включал в себя как часть еще одну древнюю театральную традицию – принцип вачика-абхиная – искусство выражения мимикой и речью эмоционально-чувственных состояний, стилизацию жизни на сцене [107].
Еще одно драматургическое ритуализированное действо с масками – Якшагана, которая возникла в XV веке в провинции Карнатака. В основе драматических сюжетов эпические мифы «Рамаяна» и «Махабхарата». Актерами жанра являлись только мужчины, что объясняется воинственным характером эпосов-источников. Представления разыгрывались как часть религиозных обрядов для благодарности божествам, в честь праздников или своеобразной жертвы. Мужчинам предписывалось быть одетыми в яркие костюмы воинов, в маски с мужественными, героическими чертами (в золоте, красном, черном и белом цвете [76]).
Катакхали еще одно театральное индийское направление, возникшее в штате Керал, но уже в XVII веке («каткх» – сказитель историй). С якшаганой его роднит тип сюжетности – обращение к «Рамаяне» и «Махабхарате» (в них самих есть литературное упоминание масок). И также пьесу исполняют мужчины. Однако маски на них более декоративны (часть головного убора), не закрывают все лицо и включают яркий масочный грим. Больше внимания уделяется в катахали языку тела, чем непосредственно тексту. Главным принципом является ахарья-абхиная – искусство передачи смысла через костюм и украшения, которыми отличают статус персонажа, возраст, пол и пр. Известно о существовании двух стереотипов образов: пачкха-вешам – добрые – в зеленом цвете, кати-вешам – злые – в темном, с красными носами.
В театральных представлениях Индии с масками-гримом в более поздние эпохи стали применяться более утонченные принципы мастерства: саттвика-абхиная – искусство передачи чувств через связь со зрителями (актер должен экспромтом плакать, бояться, смеяться, если есть «запрос» из зала); ангика-абхиная – искусство соответствия движения конечностей выражению лица актера (мастерство в нарочитой небрежности или идеальном совпадении).
Заканчивая анализ вещной индийской маки, нужно сказать несколько слов о масках Шри-Ланки (о. Цейлон), где наряду с буддизмом были распространены культ мертвых, культ предков и представления о злых силах якка. Колдуны – яккадуры – приходили по зову нуждающихся в помощи, надевали маски демонов, чтобы «вобрать» в себя зло. Главным демоном считался Суньян-якку, который насылал серьезные болезни и неприятности, кошмары и даже отсутствие аппетита. Этой маске противопоставляли маску-щит «Повелитель болезней»; его жрецы – каттадии – носили данную маску во время «медицинских» обрядов изгнания. Болезни представляли отдельными масками – Паралич, Чума и т.д. Некоторые целители (до сих пор) носят на себе наборы масок, которые должны были символизировать собой умения колдуна как «врача» – своеобразный «диплом» специалиста [107].
Театральная традиция Шри-Ланки – Колам. Центральными образами являются маски, отражающие политеистические представления – боги, демоны, фантастические (Гурулу-рясса – суровая буддийская птица Гаруда; Нага-рясса – змеиный дракон) и реальные животные; а также знать (например, персонаж царевич Кумар) и простые люди. Маски создавали из дерева, раскрашивали и покрывали лаком. Интересна конструкция сингальских образцов – глаза персонажа делали крайне выпуклыми, что во время действия создавало эффект реальности.
В повседневной жизни Индии маски использовали (и используют до сих пор) в ходе обрядов, сопровождающих свадьбы, похороны, рождения детей и значимые события, как в жизни отдельных индивидов, так и в жизни общества (празднества в честь богов, фестивали и пр.). Маски применяют танцоры, участвующие в действии, также они присутствуют в качестве части костюма субъектов торжества. Например, наряд невесты и жениха до сих пор включает яркий грим и обилие золотых украшений, создающих эффект маски. Последователи многообразных культов, не относящиеся к жреческому сословию, вне служений божественным силам иногда носят ритуальный грим (белая глина на всем лице, яркие полосы на лбу и темени и пр. [76]).
Так, специфика генезиса маски и динамика ее развития как вещи в индийской культуре и культуре Шри-Ланки показали, что профанные и сакральные маски-типажи тесно связаны с доминантами этой культуры: медитативным характером обожествления природы, космогонической спецификой этики, универсальным принципом подчинения многого единому (Я – космосу), выраженных в центральных религиозно-философских категориях.
1.4. Сложные взаимоотношения арабского Востока и маски
Рассматривать историю вещной маски в арабо-мусульманской культуре без обращения к древним языческим корням невозможно. То, что сегодня определяется исследователями как принадлежащее к типу культуры Востока, по наличию особых черт (коллективизма, сакрализации власти, харизматичности восприятия действительности и пр.), включает в себя крупный пласт языческих и мусульманских культур, зародившихся на юго-западе Азии, севере Африки и Аравийском полуострове. В ходе обращения к этой части культур Востока необходимо помнить, что хронологические рамки, принятые по отношению к этим общностям, весьма условны.
Древняя культур-история доисламского периода «прозападного» Востока включает в себя культуры Месопотамии и «буферных» государств прозападного (находящегося на границе интересов Запада) Востока – Ливии, Сирии, Иудейского царства, Финикии. Шумеры, вавилоняне, ассирийцы, хетты, хурриты, хананеи, арамеи, израильтяне на протяжении почти пяти тысячелетий принимали участие в наполнении культурного контекста Двуречья [139]. Особого внимания заслуживает и африканский Египет, который длительное время (вплоть до римской экспансии) обладал значимой военно-политической, экономической мощью для того, чтобы оказывать влияние на этот регион.
В рамки политеистической «древности» вписывается джахилийская («невежественная», языческая) культура аравийского полуострова – период раннего средневековья (до V в), во время которого основу религиозных культов составляли идолопоклонничество и фетишизм (вероятно, сопровождаемые мистериями, в атрибутику которых включались маски) [13]; в эти века также происходило становление частнособственнических, феодальных отношений. Арабы-язычники опирались на систему ценностей, связанную с безопасностью. Главным фактором становления этой системы были природно-климатические особенности: пустыня, скудность водных и пищевых ресурсов. Потому выживание в таких суровых условиях было обусловлено сплоченностью коллектива – племенной общины. Члены общины были связаны друг с другом кровным родством и традициями, завещанными предками. Наличие коллективных прав предполагало коллективную ответственность, которую разделяли все субъекты. Также, кроме общинности, ценностями были подчинение старшим, помощь слабым, щедрость, мужественность и настойчивость. К VI веку с приходом ислама культурные доминанты сохранились и составили основу арабо-мусульманского культурного типа, которому в ходе исторического развития пришлось выступить против экспансии Запада.