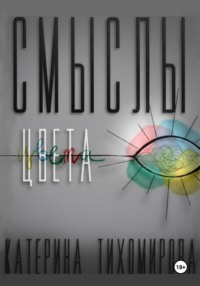Полная версия
Пределы маски
Существовало всего пять видов боевых масок: хаппури (исторически самая первая разновидность – закрывала лоб и щеки), хамбо (защита нижней части лица), хоатэ (подбородок и щеки), мэмпо (защита всего лица, со снимаемым щитком для носа), сомэн (полная защита, которая ограничивала зрение и мешала в бою; больше служили для парадных случаев, когда самурай демонстрировал красоту). Стоит отметить еще одну боевую японскую маску, но не человека-воина, а воина-коня – умадзура. Ее выковывали из железа, придавая вид головы быка для устрашения врагов.
В эпоху Токугава (XVI–XVII вв.) боевое облачение приобрело декоративный вид и стало служить только для обозначения роли и статуса владельца, а не защитой в бою [68]. Период сложения единого государства прошел, в военной мужественности уже не было необходимости. Знатные мужчины теперь даже применяли косметику (пудрили лицо и уже на нем рисовали полосы, означающие «мужские» эмоции – гнев, суровость и т.д.), следили за состоянием волос, растительности на лице. Этикет императорского дома предписывал не только женщинам, но и мужчинам являться ко двору со всеми атрибутами аристократического дресс-кода; виновные в его отсутствии наказывались. Этикет внешнего вида мужчины касался не только официальных встреч при дворе монарха, но и встреч с женщинами. Так, например, в древней японской художественной литературе упоминаются неловкие ситуации, связанные с одеждой, прическами («Повесть о прекрасной Отикубо» (X век, история японской Золушки; сцена второго свидания) и «Записки у изголовья» Сэй Сёногон (XI век, многочисленные сцены дворцовой жизни) [179]).
Предметная представленность японских масок обрела свою специфику не только в повседневной культуре – сфере этикета, мужского и женского дресс-кода, но и в сфере сакрального – в содержании религиозных, культовых и мистериальных масок. Конкретные артефакты хранятся в коллекциях многих мировых музеев, в частности русские ученые-этнографы тщательно собирали маски в ходе полевых исследований еще с конца XIX века для Кунсткамеры Санкт-Петербурга. Среди исследователей Японии: А.Иванов (итоги исследования 1912г), А.Е. Глускина (результаты работы 1928г).
В основе предрелигиозных представлений Японии (анимизм, тотемизм, зооморфизм) было поклонение силам природы: солнцу, земле, небу, ветру, водной стихии и т.д., восхищение природой, стремление к гармонии, осознание мира и себя в качестве вместилища для ками (божеств, духов). С ходом истории сформировался синтоизм, сочетающий в себе культ предков, культ солнца и культ императора, как потомка солнечной богини (или «великого солнечного Будды») [257, 201]. Синтоизм ощутил на себе влияние внешних религиозных трендов – конфуцианства, даосизма и буддизма, выразившееся в становлении общего для Востока принципа: человек – ядро государства. Подобный синкретизм породил соответствующие культовые маски.
Маски, которые использовались японцами (равно как и другими культурами, как мы увидим в следующих параграфах данной работы) в религиозных целях, должны были исключить человеческое начало из действа, представить присутствующим «лицо» божества, сверхъестественной силы, демона, духа. Например, ручные маски (не на шнурках), изображающие мифических животных: лисица – оборотень, колдунья, образ-метафора, маска хитрости, изворотливости, изменчивости, лев Сиси/собака Шицза – защитник и страж веры в традиции махаяны. Ритуальные маски создавались из дерева, папье-маше, волос и краски.
В процессе совершения ритуалов жрецы надевали маски, исполняли песнопения и символические пластические движения. Сакральные церемонии имели мистериальное воплощение (например, мистерии Кагура – религиозные театральные «иллюстрации» культа богини солнца Аматэрасу на сюжет об умирающем и воскресающем божестве), которое могло было быть представлено и для профанных зрителей – не служителей культа. Храмовые жрицы в соответствующих масках разыгрывали миф о жизни богини солнца. Позднее, как и в Древней Греции из мистерий Диониса, в Японии из мистерий Кагура появился театр [5].
Первые театральные традиции, которые появились в Японии примерно в VII–VIII веках – бугаку и гикаку. Обе разновидности носили синкретический характер, так как не являлись аутентичными для японской культуры. На их становление оказал влияние буддизм, пришедший из Индии не прямым путем, а через Китай и Корею, чьи специфические черты и наличествуют в образах данных театральных форм.
Благодаря поддержке духовной и светской власти, эти направления достигли расцвета к IX веку. В основе сюжетов для театральных моделей лежали как буддийские мифы, так и синтоистские (например, центральная сценическая история о богине солнца Аматэрасу). И бугаку, и гигаку не были секуляризированными драматическими действами, а носили мистериальный характер и в простой форме, при помощи музыки, танца, пантомимы и вещной атрибутики – масок – доносили до человека основы религиозной системы.
В отличие от всем известного устройства древнегреческого театра (с амфитеатром для зрителей, орхестрой, сложными сценическими механизмами), представления бугаку и гигаку не устраивались на специально предназначенных для театра площадках. Пьесы разыгрывались перед храмами, на помостах, иногда просто на земле, днем или ночью, перед императором во дворце. Выбор места и времени был обусловлен значимыми в религиозном плане событиями.
Главными способами для передачи смыслов мистерий были музыка, танец, движения тела и маски, а текст отсутствовал (исключение делалось для сопровождения голосом в виде возгласов, не несущих смысловой нагрузки). Музыкальными инструментами служили барабаны, гонги, духовые и струнные, каждый из которых был маской-звуком – вступал в действие соответственно характерам персонажей (устрашение – ударные, нежность – флейты). Тем самым, театр бугаку презентировал модель театрального типа (роли) специфическими музыкальными средствами – тембром, ритмом, диапазоном и мелодией. Той же цели служили танец и пантомима, которые дополняли ролевые смыслы. Было несколько обязательных типов танца: мирный, военный, детский, танцы левой и правой стороны – танцы с индийскими, китайскими и корейскими элементами. Каждый из них обязательно исполнялся парой танцоров. В этой парности позиционировалась масочная идея коммуникативности – запроса и ответа, субъект-субъектного, выражения доминанты татэмаэ и их важности для сущности японской культуры. Явными же атрибутами древнейших театральных пьес стали вещные маски.
Первые маски появились в действах гигаку. Материалом для них служило дерево, которое полировалось, соответственно окрашивалось и покрывалось лаком. Цвета использовали для подчеркивания характера персонажей – черный акцентировал добродетель, зеленый – счастье и гармонию, красный – жизненные силы, радость, героизм. Мастера масок тщательно вырезывали детали «лиц» (уши, рот, нос), уделяя им особое внимание, чтобы акцентировать зрителя на характере героя.
Особый интерес представляет образный ряд вещных масок гигаку: птица Гаруда (ездовая птица бога Вишну, способная к мгновенным превращениям, изменчивости, борец со злом), лев Сиси (защитник) и его спутник – юноша Сисико (укротитель), Тидо (длинноносая маска «конферансье» – древнего ведущего представление), Гоко (маска абстракция иноземного правителя), маски простых людей – стариков, девушек, воинов. Так, мистерия гигаку обозначила данным набором масочных персонажей, с одной стороны, синкретизм как черту японской культуры (по совокупности китайских, корейских, индийских компонент), с другой стороны – обозначила специфику японского в реализации принципов хоннэ (открытости), татэмаэ (должного «лица») и хикае (самоконтроля). Также гигаку наметила в своем развитии тенденции к демократизации и секуляризации мистерии с дальнейшей трансформацией в театральный жанр.
В ходе формирования мифологической рефлексии производящего характера в Японии, как и других культурах, появились соответствующие продукты: земледельческие культы, с мифологическим сопровождением, ценности и нормы в экономической, правовой, социальной, эстетической и других сферах. Уникальными феноменами выступили театральные жанры с земледельческим «ароматом» дэнгаку и саругаку, появившиеся следом за танцевальными мистериальными драмами с космогоническими сюжетами, освещающими культ природы и синтоизм [5].
Дэнгаку – мистерия с танцами профессиональных актеров, сопровождаемая песнями, символической пластикой, посвященная возделыванию земли, плодородию, борьбе зла и добра за власть над полями, посвященная ритуалам в честь духа Таасоби – покровителя рисоводов. Первоначально действа осуществлялись жрецами на полях, позже элементы религии стали носить все более декоративный характер и перешли в городскую культуру, в сферу досуга. Также как и у бугаку, специальных зданий для представлений не было предусмотрено; не было и сценарной составляющей – сюжет развивался экспромтом. Дэнгаку пользовалось популярностью у горожан, потому что актеры выступали в ярких костюмах, масках, действие включало в себя элементы эротизма (неотъемлемые для культов плодородия) и было понятно всем, так как затрагивало аспекты повседневной жизни и насущный труд.
На смену дэнгаку в XI веке пришел другой жанр, более урбанизированный – саругаку [5]. Некоторые исследователи полагают, что и дэнгаку, и саругаку – производные от прокитайского сангаку – ярмарочного, площадного фарса с цирковыми элементами (клоуны, жонглеры, акробаты и пр.). По факту, саругаку был фарсом, с сатирическим импровизированным сюжетом, текстом, акробатическими танцами и пантомимой. Актеры делали характерный грим или носили маски с утрированными деталями. Образный ряд включал в себя как фантастических существ, так и маски простых людей. Популярность саругаку подтолкнула жреческое сословие включить этот жанр в программу многообразных религиозных праздников. Но главной заслугой саругаку и бугаку стало то, что их традиции, сюжеты стали основой возникновения в XIV веке профессионального театра Но.
Театр Но синтезировал в себе особенности религиозных японских мистерий и предтеатральные формы (аристократические драмы гагаку и бугаку, профанную земледельческую мистерию дэнгаку и околоцирковой фарс – саругаку). В культуре Японии была и сакральная версия происхождения театра: в древнем сборнике мифологических текстов «Кодзики» повествовалось о том, как небесная богиня Удзумэ своим экстатическим танцем вызвала скрывшуюся богиню солнца; этим мифом объясняли связь театра Но с жизнью богов и ее перипетиями.
К моменту сложения театра Но сформировалась музыкальная культура – строй, составы «оркестров», классические жанры и стили. Также определились формы стихосложения, которые легли в основу театральной драматургии. Еще одним важным фактором развития искусства Но стало появление профессии мастера масок, которая основывалась на опыте и традициях предстоящих театральных традиций.
Кроме внешних аспектов на генезис Но оказали влияние центральные принципы национального характера – хоннэ, татэмаэ, гири и принципы эстетической культуры – саби, ваби, сегуй и югэн (особенно).
Использование масок актерами во время представлений театра Но было связано с необходимостью временно отрекаться от Я. Такое отречение имело множество смыслов: во-первых, скрывать свой возраст и свою повседневность; во-вторых, скрывать собственные переживания (татэмаэ); в-третьих, подчеркивать маской красоту подтекста – выражать глубину, многоуровневость действительности; в-четвертых, быть искусным в мастерстве подражания нужному образу (моноварэ). Так, сокрытие под маской означало абсолютную трансформацию актера в эту маску и в ее значения. Маска «вела» по сценическому действию, подчиняла актера себе, предоставляла власть над аудиторией.
Ведущий актер выбирал маску самостоятельно, основываясь на личном видении сюжета. В ходе пьесы актер сталкивался с очевидным препятствием: маска от начала до конца представления показывала одно выражение «лица», что не способствовало воплощению течения времени. Данную проблему мастера Но научились преодолевать пластикой тела, жестами, поворотами головы под определенный угол освещения, чтобы создавать иллюзии эмоций.
По правилам театра Но актеры второго плана (цурэ) также носили маски, но их выбор был опосредован ведущим персонажем. Остальной состав труппы мог принимать участие в представлении и без масок, но обязательно выполняя условие – живое лицо не должно было выражать никаких чувств и быть подобным маске («прямое лицо» – хитамэн; интересен факт наличия в современной культуре словесного и визуального мема (единицы культурной информации; см.5.1) «poker face» (англо-американский сленг – лица, скрывающего намерения, используемого вне рамок национальных культур).
Среди масок театра Но – омотэ («покрытие лица») следующие [5]:
– Окина – типаж маски богов. Образ имеет несколько разновидностей: Хакусики (главная, белая), Кокусики (черная для ритуала изгнания зла), Тити-но (старший, символ плодородия), Эммэй(младший, будущий урожай); Радзин – бог грома, Фудзин – бог ветра, Сарутахико – покровитель дорог (краснолиций старик с длинным носом),
– Дзё-мэн – маски, изображающие пожилых людей; имеют множество вариаций, в которых подчеркивается связь мира человеческого с миром духов и демонов (одержимые старики, старики-призраки и пр.).
– Онна-мэн – женские типажи; маски презентируют женское начало по возрастам и чувственности (Уба – старуха, Ко-омотэ – дева, Омионна – молодая женщина, Фукай – зрелая).
– Отоко-мэн – широкий ряд мужских ликов, символизирующих статус, занятия (аристократы, государственные чиновники (например, маска министра), ремесленники, творцы, воины, волшебники и др.: разбойник Кумасака, колдун Иккаку-сэннин, принц Самумару); маска самурая в этом классе появится к XVI веку, сопровождая становления сословия воинов.
– Кисин, Они – красные, синие, зеленые, черные маски сверхъестественных сил, демонов, фантастических чудищ (львов, собак, птиц и пр.; например, Ондеко – аналог дьявола; Гийодо – бог-дракон; Шиками – свирепый демон с золотыми глазами и зубами; Якша – вероятно с индийскими корнями демон-вампир, иногда хранитель леса; Рокурокуби – женщины-демоницы, преследующие преступников; ёкай Кицуне – лиса-оборотень, зооморфы, питающиеся энергией человека, имеют и светлое начало – являются посланниками богов земледелия, помогают найти выход из сложных ситуаций; Бэкэнэко – демон-кошка, зооморф-мститель, сязанный со смертью; ворон-демон Карасу; демон-«человек» Ямабуси, похожий на монаха-отшельника – помогает заблудившимся в лесу; демон-змея Нурэ – женский образ; Каппа – демон-водяной; Юки – японский аналог «снежной королевы»); демоны могут, как вредить, так и защищать человека.
– Онрё – типаж, изображающий мертвых людей, призраков; эти маски создают ощущение скрытой угрозы, горя (например, красная маска Ханнья – женщина, ставшая демоном; характер мстительной ревнивицы, обиды и горя передают цвет, черты лица – морщины, выпученные глаза, оскаленные зубы; Джанкуй – человек, ставший демоном, но защищающий живых от своих «товарищей»; Хацухана – образ умершей женщины и после смерти заботящейся о муже).
К XVII веку театр Но видоизменился – к музыке и хореографии добавились пение, грим и специфические костюмы, которые были призваны акцентировать внимание зрителей на глубоких переживаниях персонажей. То, что делали в театре Но маски, в новой форме театра предстояло совершать модуляциям голоса и макияжу. Театральный грим стал выполнять функции маски, но маски одноразовой. Новая форма театра получила название Кабуки. Точного перевода термина нет, отдельно иероглифы располагаются по значениям «мастерство», «песня и танец», «игра» [68, 5].
В период становления Кабуки представления разыгрывались только с участием женщин; однако поведение актрис вызывало нарекания монашества, светской власти. Сёгун Токугава запретил присутствие женщин на сцене, но жанр пользовался большой популярностью – место актрис заняли мужчины. Образовалось две разновидности Кабуки – классический (с характерной типизацией ролей, сохранившейся до наших дней) и яро-Кабуки (утонченный, плутовской, сатирический).
В классике Кабуки наличествует три стиля игры: оннагата – женские, арагото – брутальные, грубые, мужские, вагото – мужские гармоничные. Также в этом направлении существует обязательное деление персонажей по типам:
Титияку – главный герой на стороне добра, который может быть представлен воином-богатырем, мудрецом, красавцем-любовником, терпеливым человеком.
Катакияку – главный герой стороны зла, облеченный в образ преступника, пресыщенного любовника, лицемера, человека, вынужденного обстоятельствами ко злу.
Онногата – образы героинь, реализуемые в ролях куртизанок, аристократок, верных и неверных жен, девушек, женщин-воинов и т.п.
Также в театре Кабуки были в наличии персонажи детей и буффонные (комические) роли.
Театр Кабуки существует и в современной японской культуре. Осталась неизменной внешняя стилистика, хореография, музыкальное сопровождение, но задачей представления человеческого начала трансформировалась, так как полностью оградить самобытный жанр от внешних влияний мировой культуры в условия глобализации не представляется возможным.
Таким образом, вещная природа японской маски и на этапе генезиса (неолит – VI в), и в ходе своего развития обрела внешние специфические черты под воздействием извне (Индия, Китай, Корея – средневековье, западные культуры – Новое и Новейшее время). Эти черты утилитарной маски напрямую связаны с религиозной культурой – синкретизмом традиций поклонения силам природы, предкам, принятием буддизма; связаны с социально-этической направленностью системы ценностей – аутентичными принципами должного и стыдного; с политико-правовыми историческими обстоятельствами – периодом раздробленности и междоусобиц, формированием сёгуната и единого государства; с ценностями эстетики – принципами познания прекрасного; а также обусловлены природно-климатическими условиями. Кроме того, вещная маска стала формой выразившей многообразные смыслы идеи маски (повседневности, коммуникации, культов, войны, досуга), как идеи изменчивости необходимой для развития культуры в целом.
1.2. «Небо», «предки», «долг», «красота» и «цзюнь-цзы» как доминантные основы китайского маскарада
Китайская культурная традиция в основе своей, как и японская, имеет ритуализированную этику. Однако обладает рядом отличий, связанных с природными факторами, гео-спецификой: китайский восток – восток материковый. Так, природно-географические особенности, плюс особенности развития политической, правовой, религиозной, эстетической сфер сформировали уникальные доминанты культуры Китая, а также формы и содержания вещной маски, ставшие предметом нашего научного интереса.
Древняя цивилизация Китая относится к ряду «речных», земледельческих, сложившихся в долинах крупных водных артерий. Развитое сельское хозяйство поставило на приоритетные позиции китайскую государственность в сравнении с соседними кочевническими культурами. Уже в IX в. до н.э. древнекитайское государство Шань обладало профессиональным войском, календарем и письменностью. Следующая эпоха – Чжоу, смешивая близкие регионально этнические культуры, установила центральный принцип – общинность как основу жизнетворчества, связующее звено китайской системы ценностей. Именно в этот период возникли и получили распространение конфуцианство и даосизм. Буддизм придет в Китай в эпоху государства Хань – к I веку нашей эры. В Новейшее время эта культура вошла под руководством династии Цин, которую смели с трона волны восстаний и революций, докатившиеся из Европы и в Китай [75].
Нападения гуннов, монголов, других кочевников, междоусобицы аутентичных этносов довольно долго мешали стабильному развитию (вплоть доXV в.) китайской культуры. В ходе конфликтов, войн, захвата территорий и ассимиляций Китай создал уникальные по своей значимости для человечества феномены и артефакты – Великую Китайскую стену, Великий Китайский канал, научные изобретения и теории в области медицины, астрономии, математики и пр. Также в контексте культурно-исторического развития страны от древности до наших дней обнаруживает себя маска как идея и маска как вещь. Проанализируем генезис и формы предметной природы маски в ритуализированной культуре Китая.
Для того, чтобы описать и понять значение видов китайских масок, необходимо обратиться к понятию ритуала, которое сыграло большую роль в становлении культуры Китая в целом. Важно понимать, что неисчислимое множество обрядов, церемоний и ритуалов разной функциональности, бытовавших (и существующих ныне) в культурном контексте китайской истории, связано со значимостью ритуала как доминанты, как способа сохранения и трансляции культуры в социуме [92].
Поклонение силам природы, культ неба (абстрактно продолженный в даосизме) и культ предков оказали влияние на характер религиозной атрибутики. На бронзовых ритуальных сосудах и секирах эпохи Шан и эпохи Чжоу повсеместно встречаются маски чудовища Таотэ («обжора»): большие глаза, мощные брови, рога – черты, которые должны были сопровождать жертву к объектам поклонения – божествам неба, воды и других природных стихий.
Служители культа природы носили маски для совершения заклинаний, молитв об урожае, плодородии, защиты от злых духов и демонов. В этих церемониях применялись маски как на шнурах, так и ручные (которые держат в руке). С усложнением церемониала изменился и внешний вид масок. В конце эпохи Цинь начало формироваться конфуцианство и, преодолев гонения начала эпохи Хань, стало основой государственного строя, идеологией взаимодействия социума и власти. Конфуций полагал, что государство должно представлять собой большую семью, которой управляет справедливый «отец», а остальные находятся в почтительном послушании старшим; женщины нежны, крестьяне трудолюбивы. Чтобы этого достичь, предполагалось помнить опыт предков, быть мудрым, терпеливым, умеренным, искренним, выполнять долг. Счастье государства виделось в воплощении идеала человека – «цзюнь-цзы». Так, идеи подчинения и долга как пользы перешли в обрядовость религиозной сферы и реализовались в соответствующих атрибутах мистерий – масках.
В центральной части Китай, его равнинных областях конфуцианство смешалось с шаманизмом и тотемизмом, породив целый ряд богатых масочных образов – устрашающие фантастические звери, агрессивные черты, яркие цвета. Эти маски использовались в похоронных обрядах для изгнания злых сил из тела умершего. Подобные маски, связанные с похоронным церемониалом, есть и в традиции провинции Гуйчжоу, появление которых датировано VII веком (эпоха Тан). Конечно, религиозные представления древних китайцев затрагивали не только конец жизни, но и ее начало – появление семьи и рождение ребенка церемониально сопровождалось молитвенными ритуалами. В некоторых из них совершались бракосочетания (подобные традиции до сих пор есть и в современном Китае), некоторые маски применялись служителями культа во время освящения семьи и ребенка, иные – носили характер сакральной декорации интерьера дома (вывешивались на стену детской, спальни, возле входа, чтобы охранять покой жилища от темных сил).
Особого разговора заслуживают тибетские маски. Тибет – одно из древнейших азиатских материковых горных государств, близкое Китаю, прошедшее сложный путь истории в своем развитии. Эта сложность была обусловлена и природными условиями, и политическими. Тибет находится между Китаем и Индией, и в разные эпохи служил магнитом для военной экспансии, как этих государств, так европейских (например, Англии в XIX веке) и даже России, у которой были свои интересы на китайской политической арене. Для нашего исследования вещных масок важны периоды Юань, Мин, Цин (с XIII по XVIII вв.) [75].
В истоке буддийской масочной традиции Тибета лежит более древнее религиозное учение Бон (магическая практика, основанная на ритмическом пении-речитативе для задабривания духов или защиты от них). В ходе истории развития культуры Тибета религия Бон слилась с буддизмом, породив специфические продукты (тексты, живопись, скульптуру, маски и пр.). Среди главных божеств Бон основными были: белый бог неба (Небесный наставник), черная богиня земли, красный тигр, а также духи джиг, цан, сабдаг – враждебные человеку. Действия священника Бон определялись практической пользой, а не нравственными принципами. С точки зрения европейских христианских исследователей религия Бон стоит не на «правильной» стороне, так как практикует магические обряды, атрибуты с «темной» (для европейца) символикой (перевернутый крест, свастика позднего периода развития религии, обходы ритуальных ступ против часовой стрелки и др.). Бонийская мистерия Чам включала в себя танцы актеров в масках Якка (злых духов) и масках, имитирующих человеческие черепа. Согласно мифологическому сюжету «актеры» разыгрывали битву злых духов с мудрецом Ринпоче, защищающим правильный ритуал. С проникновением буддизма в Тибет мистерия Чам и ее маски трансформировались в упрощенную для профанной аудитории религиозную драму – Цам [92].