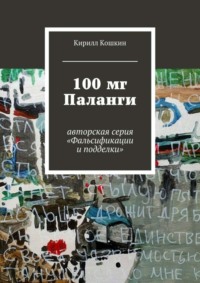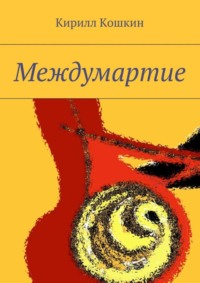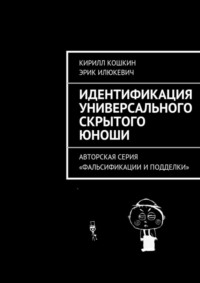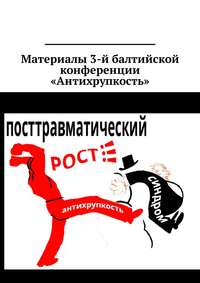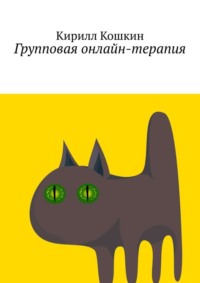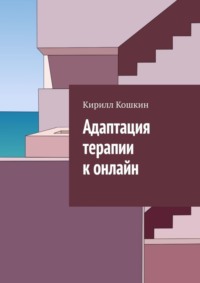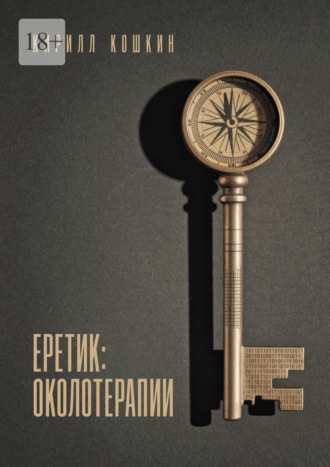
Полная версия
Еретик: околотерапии

Еретик: околотерапии
Кирилл Кошкин
Плывут две молодые рыбешки,
а навстречу им рыба постарше.
Она кивает им и говорит:
«Доброе утро, ребята. Как водичка?»
Юнцы проплывают еще немного,
тут один из них
поворачивается к другому
и спрашивает:
«А че такое „водичка“?»
Иллюстратор Кошкин Кирилл
© Кирилл Кошкин, 2025
© Кошкин Кирилл, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0068-2832-2
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
Помните, как в пьесе «Гроза» русского драматурга А. Н. Островского главная героиня Катерина возбуждённо сообщает: «Я говорю: отчего люди не летают так, как птицы? Знаешь, мне иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горе, так тебя и тянет лететь. Вот так бы разбежалась, подняла руки и полетела. Попробовать нешто теперь?».
Многие пробовали. Приделывали крылья, перья. Размахивали ими, прыгая с утёсов и колоколен. Очень хотели летать, жаждали понять, как это работает. Изучали птиц, наблюдали за их полётом, пытались разгадать секрет парения в воздухе. Но оказалось, что значение имеют не перья и размахивание крыльями, а законы гидродинамики. Когда Даниил Бернулли описал законы гидродинамики – сразу стали возможны полёты. Человечество наконец-то оторвалось от земли не потому, что научилось подражать птицам, а потому что поняло физические принципы, лежащие в основе полёта.
К сожалению, в психотерапии ещё не найдена своя «гидродинамика». Мы всё ещё находимся на стадии приделывания крыльев и прыжков с колоколен, образно говоря. Вот и пробуем разное до сих пор, экспериментируем с подходами, методами, техниками. Никто не знает, из какой идеи родится то самое, верное, которое позволит взлететь. Может быть, это случится завтра, а может быть – через столетие. Но без проб и экспериментов этого точно не произойдёт. Поэтому эта книга предназначена для обсуждения различных идей и проб инструментов «нешто теперь».
Я пишу о мотивации психотерапевта, нацеленности на результат, глобальной миссии психотерапии – в первой главе.
О том, что «быть – значит быть значением связанной переменной» (У. Куайн), необходимости различать правду и ложь, устанавливать рамки (принимая или не принимая их), спонтанности и преднамеренности – во второй.
О базовых принципах мышления, приоритетах в распределении ресурсов – в третьей.
О росте и прибыли с точки зрения психотерапии, о том, почему система подготовки психотерапевтов должна быть другой, нормах и правилах – в четвёртой.
О том, что клиенты нанимают услуги психотерапевта, а не самого терапевта с его регалиями и опытом, и почему важно об этом помнить – в пятой.
О том, почему терапевт не должен опираться в своей работе на сочувствие, об обещаниях в терапии – в шестой.
О парадоксе Тесея в психотерапии, принципах взаимовыгодного сотрудничества терапевта и клиента, ресурсах, процессах и приоритетах – в седьмой.
О том, почему психотерапевту важно не останавливаться, не удовлетворяться накопленным опытом и держаться подальше от совершенства – в восьмой.
О культуре психотерапии, контекстах, взаимодействии с клиентом, справедливости – в девятой.
О том, как понять, что психотерапевт придерживается правильного пути, как понять, верны ли и хороши его решения и саму реальность – в десятой.
Десять глав, десять рассуждений о психотерапии и психотерапевтах с точки зрения ярких философских работ известных философов, мыслителей, экономистов, логиков, математиков, бизнесменов. И, конечно, с точки зрения автора этой книги, который пытается найти точки пересечения между, казалось бы, далёкими друг от друга областями знания.
Глава 1. Почему мы работаем психотерапевтами?
Когда человек в чём-то нуждается, он ищет способ эту нужду удовлетворить. Способ может быть взят из собственного опыта или заимствован из чужого. Это базовый принцип человеческого поведения, работающий во всех сферах жизни – от бытовых мелочей до экзистенциальных вопросов. В идеале, если есть проблема, то есть и способ её решить. Сначала узнаёшь способ, потом быстренько решаешь проблему и в итоге, насвистывая, идёшь дальше. Просто, логично, эффективно.
Разумеется, так происходит не всегда. Даже если способ выбран правильно, человек может неправильно или неумело им воспользоваться, ошибиться. Формально всё будет верно. Все инструкции соблюдены, все шаги выполнены. Но результат окажется неподходящим, то есть не удовлетворит нужды, не решит проблемы. И человек остаётся с тем же самым затруднением, только теперь ещё и разочарованный в своих способностях.
Решённая проблема – пряник.
Нерешённая проблема – кнут.
Решил проблему – отлично себя чувствуешь.
Не решил проблему – плохо себя чувствуешь.
Не можешь решить проблему сам – попроси другого, который умеет и может.
Действительно, некоторые люди совершенствуются в решении определённых проблем. Они становятся специалистами в тех или иных областях, накапливают опыт, отрабатывают навыки, изучают закономерности. И другие люди пользуются их опытом, чтобы справиться со своими задачами. Это разумное разделение труда, которое существует во всех человеческих обществах. Но, без сомнений, того, кто умеет и может, надо чем-то замотивировать. Специалист тоже должен что-то получить за свою работу, иначе зачем ему тратить время и усилия?
М. Дженсен и В. Меклинг в своей работе 1976 года утвердили, что лучший мотиватор для человека – деньги. Хочешь поощрить – дай денег. Хочешь наказать – не давай или отними. Просто, понятно, универсально.
Кажется, что всё просто. Если есть психологические проблемы, дай денег пси-специалисту – и твоя проблема будет решена. Человек, обращаясь к психотерапевту, как раз и рассчитывает на то, что его затруднения будут разрешены компетенциями и навыками специалиста. И это законный расчёт: купить за деньги решение своей проблемы, а не кота в мешке. Как покупаешь услуги сантехника, чтобы устранить течь, или услуги юриста, чтобы выиграть дело.
В реальности дела обстоят не так. Пси-специалист по каким-то причинам избегает обещать и гарантировать. Более того, чем больше денег обещает страждущий, тем осторожнее себя ведёт пси-специалист, тем мутнее его текст. Вместо чётких обещаний и сроков клиент слышит уклончивые формулировки, оговорки, предупреждения о том, что «всё индивидуально», что «результат зависит от многих факторов», что «мы не можем гарантировать».
Идея Дженсена и Меклинга не слишком хорошо работает с психотерапевтами, да и не только с ними. Например, теория не объясняет усердия людей, бескорыстно занятых в благотворительных проектах. Не объясняет она и преданности людей искусства своему творчеству. Художник может годами работать над картиной, которая, возможно, никогда не будет продана. Музыкант может посвятить жизнь совершенствованию техники, не рассчитывая на коммерческий успех. Есть хороший афоризм, принадлежащий Джошу Биллингсу: «За деньги можно, конечно, купить очаровательного пса, но никакие деньги не заставят его радостно вилять хвостом».
Так что же, кроме денег, заставляет психотерапевтов заниматься таким странным делом, да ещё и усердно? Что движет человеком, который выбирает профессию, в которой нельзя дать гарантий, в которой каждый случай уникален, в которой успех измеряется не в деньгах и не в количестве клиентов? Чтобы понять это, обращусь к Герцбергу.
Теория Герцберга
Согласно Фредерику Герцбергу, мотивация человека определяется двумя факторами.
1. Гигиенические факторы.
Направлены на предупреждение неудовлетворения окружающими обстоятельствами. Шкала располагается от неудовлетворения до нуля (равновесие, баланс, гомеостаз). Это всё то, что связано с условиями работы, зарплатой, статусом, безопасностью, отношениями с коллегами. Когда эти факторы на нуле – человек не страдает, но и не испытывает энтузиазма.
2. Мотивирующие факторы.
Побуждают к лучшему качеству, развитию, созиданию. Шкала располагается между равновесием (нулём) и удовлетворением. Это признание, достижения, ответственность, возможность роста, сама работа как источник интереса. Эти факторы дают энергию, смысл, драйв.
Есть такой анекдот: «Встречаются два друга. Один другому жалуется: „Вот, купил сегодня ёлочные игрушки, а они оказались фальшивыми…“ Второй сочувствует: „Что, не блестят?“ Первый отвечает: „Блестеть блестят, но не радуют“».
То есть у человека могут быть решены все материально-технические проблемы (гигиенические факторы), но при этом по шкале мотивирующих факторов он оказывается близок к нулевой отметке. Любой бывает одновременно доволен и недоволен своей жизнью. Можно иметь высокую зарплату, комфортный офис, уважение коллег – и при этом чувствовать пустоту и бессмысленность происходящего.
Вот приходит среднестатистический клиент к обычному терапевту, приносит свою проблему и хочет её решения. А именно: желает прекратить свою неудовлетворённость, потому что это и есть его проблема. Более того, клиент совсем не против получить удовлетворение от своей жизни. Он хочет и того, и другого – избавиться от страдания и обрести радость. Однако проблема эта нерешаема в том виде, в котором она сформулирована, так как удовлетворённость от жизни вовсе не является противоположным состоянием неудовлетворённости. Это две разные шкалы, два разных измерения человеческого опыта. К слову, это следует не только из теории Герцберга, но и подтверждается серией работ М. Селигмана и других исследователей позитивной психологии.
Поэтому бывает, что люди, находясь в нечеловечески неудовлетворительных условиях (ужасающие показатели гигиенических факторов), испытывают экстатическое удовлетворение от своей жизни и действий (мотивирующие факторы). Например, когда совершают военный или трудовой подвиг, либо – это более простой вариант – находятся в «состоянии потока» (определение М. Чиксентмихайи). Альпинист, замерзающий на склоне Эвереста, может испытывать глубочайшее удовлетворение от своего восхождения. Художник, живущий впроголодь, может быть счастлив, работая над своим полотном.
Клиент изначально приходит к психотерапевту с невыполнимой задачей: изменить совершенствованием гигиенических факторов мотивирующие факторы. Он просит: «Сделайте так, чтобы мне стало хорошо», думая, что хорошо станет, если убрать плохое. Попытки психотерапевта объяснить эту нестыковку всегда будут звучать подозрительно и мутно. Пси-специалист не будет понят, потому что на гигиеническом языке непонятен мотивирующий язык. Это как пытаться объяснить цвет слепому или музыку глухому – не хватает общей системы координат. А раз так, клиент покинет специалиста до того, как оказана помощь. Он решит, что терапевт просто не хочет или не умеет помогать, что это всё шарлатанство.
Важно иметь возможность говорить свободно на обоих языках. Психотерапевт должен уметь переводить запросы клиента с гигиенического языка на мотивирующий и обратно, создавая мосты между этими двумя мирами. В этом смысле глобальная миссия психотерапии лучше всего передаётся словами Куайна: «проект радикального перевода».
Получается, что психотерапевт – специалист по радикальному переводу. Он переводчик между двумя вселенными: миром страдания и миром смысла, миром проблем и миром возможностей.
Причём каждому пси-специалисту нужен инструмент, с помощью которого запрос клиента, оставаясь понятным в гигиеническом ключе (решение проблемы за деньги знаниями и умениями специалиста), получил бы внятное звучание и в пространстве мотивирующих факторов. Нужен способ говорить одновременно о боли и о смысле, о проблеме и о росте, о том, что мешает, и о том, к чему стремишься.
«Колесо баланса» Майера и «принцип благотворительности» Дэвидсона
Чтобы ожидаемый результат, гарантии и усилия по достижению были согласованы между клиентом и психотерапевтом, то есть между представителями гигиенических и мотивирующих факторов, на помощь приходит приём, изобретённый Полом Дж. Майером, – «колесо баланса».
Каждая из спиц «колеса» – часть проблемы, заявленной клиентом. Значимость или интенсивность этой части может быть условно шкалирована от 0 до 10. Количество таких шкал не ограничено. Можно выделить любые аспекты жизни: работа, отношения, здоровье, финансы, личностный рост, творчество, отдых, семья – всё, что важно для конкретного человека в конкретной ситуации.
Когда пси-специалист и клиент, используя «колесо», обрисовывают проблему, которую им предстоит решить, у них обозначается и концепция результата. Нужно понять, что должно измениться в этом «колесе», по заявленным шкалам, чтобы работа считалась сделанной, запрос выполненным. Клиент говорит: «Сейчас моя удовлетворённость работой на уровне 3, а хочу, чтобы было 7». И сразу появляется конкретная, измеримая цель. А также нужно понять, с какой части проблемы, с какой спицы следует начать работу. Может быть, имеет смысл начать не с самой болезненной области, а с той, где изменения достижимы быстрее и легче, чтобы создать импульс движения. Впоследствии эту часть проблемы можно декомпозировать на новом «колесе», разбить на ещё более мелкие задачи. Так у клиента и пси-специалиста появляется общее пространство смыслов и описаний, общее понимание результата и оценки успехов в работе. Они говорят на одном языке, видят одну и ту же карту территории.
Это простой способ диалога пси-специалиста и клиента о результате работы в ясных и понятных выражениях. Не абстрактное «стать счастливым» или «найти себя», а конкретные изменения в конкретных областях жизни, которые можно отслеживать и измерять.
Для многих специалистов, оказывающих нематериальные услуги, настоящей головной болью становятся вопросы:
«Может, я неправильно сделал?»;
«А если я всё сделал правильно, почему не получилось?».
Эти вопросы преследуют каждого добросовестного психотерапевта, потому что в нашей профессии нет простых и однозначных критериев успеха.
Психотерапевт решает: «А пойду-ка я к супервизору».
А у супервизора всё то же самое, ищется ответ на тот же вопрос: «Если всё правильно, то почему не получилось?»
И либо находится какая-то сомнительная причина, «непроработанность», «неосознанность», «сопротивление» клиента или терапевта, либо что-то ещё, непознаваемое и бесконечное. Можно искать объяснения до бесконечности, погружаясь всё глубже в теоретические дебри, но это не приблизит к пониманию того, что же на самом деле произошло.
Дональд Дэвидсон – американский философ и логик – в эссе «Действия, основания и причины» указывает, что основания действий человека задаются тем, что он хочет, и тем, как ему кажется, что он может сделать, чтобы получить желаемое. Рассуждения деятеля – одновременно оправдание действия и причина выполнения действия. Человек действует, исходя из своей картины мира, своих представлений о том, как устроена реальность и что в ней возможно.
Например, человек рассмеётся, если ему показать смешное слово. Чтобы вызвать обратную реакцию, оскорбить, нужно написать другое слово. Кажется логичным: смешное слово → смех, оскорбительное слово → обида. Безумие в том, что заявленные причинно-следственные связи совершенно не описывают всей полноты ситуации. Как это доказал Юм, причинно-следственные отношения связывают случайные события, а не логические. То, что вчера после смешного слова последовал смех, не гарантирует, что сегодня будет так же. Контекст меняется, настроение меняется, смыслы сдвигаются.
Если по-честному, психотерапевт никогда не сможет всерьёз утверждать, что то или иное отношенческое усилие приводит к такому-то результату. Потому что если бы клиент мог по-настоящему полно рассказать о ситуации, то его описание содержало бы и решение проблемы. Полное описание проблемы и есть её решение, как говорят в некоторых психотерапевтических традициях. Клиент лишь хочет донести до специалиста свою боль. Но неизменно будет совершать ошибки в её описании, потому что боль по определению невыразима полностью. Психотерапевт, в свою очередь, всегда будет совершать ошибки интерпретации, потому что он другой человек с другим опытом, другой историей, другой системой значений. Так как не существует технологии радикального перевода с одного человеческого на другой человеческий. Мы обречены на взаимное непонимание, и вся наша работа – попытка это непонимание минимизировать, создать хоть какой-то мост между двумя изолированными мирами.
По мнению Дэвидсона, единственная возможность услышать кого-то – оказаться в пространстве между событием и описанием этого события. Не в самом событии (это невозможно, мы не можем залезть в чужую шкуру) и не в описании (описание всегда неполно и искажено), а именно в пространстве между ними. Достичь этого можно через промежуточный шаг: идентификацию с говорящим и описывающим. Через попытку примерить на себя его оптику, его способ видеть мир.
Чтобы добиться такого, Дэвидсон предлагает опираться на принцип благотворительности, под которым понимает безоговорочное признание описания реальности говорящего как правильного. Не «объективно правильного» (такого не существует), а правильного для него, в его системе координат. Только зафиксировав фон как правильный по умолчанию, психотерапевт может всерьёз исследовать способы образования «фигур», динамику заявленной клиентом проблемы. Если мы начнём с того, что клиент неправ, что его восприятие искажено, что он «неадекватен», – мы никуда не придём. Только приняв его мир как данность, мы сможем начать в нём ориентироваться.
Инструмент Майера «колесо» отлично помогает зафиксировать фон и следовать за клиентом по-настоящему, а не декларативно. Ведь если клиент хочет гарантий и результатов, надо найти способ их обеспечить, не нарушая своей профессиональной идентичности. И не нужно забывать: описание не событие. Причинные связи существуют между событиями. Логические связи – между описаниями. Мы работаем в пространстве описаний, но стремимся повлиять на события. И «колесо баланса» – один из инструментов, позволяющих навести мосты между этими двумя реальностями.
Глава 2. Спонтанность и преднамеренность в психотерапии
Быть – значит быть значением связанной переменной.
У. КуайнДумаю, все знают слова Ф. М. Достоевского о «слезинке ребёнка», даже те, кто не читали «Братьев Карамазовых».
Приведу эту цитату полностью: «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, ещё не умеющее даже осмыслить, что с ней делается, бьёт себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к „Боженьке“, чтобы тот защитил его, – понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный, понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без неё, говорят, и пробыть бы не мог человек на земле, ибо не познал бы добра и зла. Для чего познавать это чёртово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слёзок ребёночка к „Боженьке“. <…> Пока ещё время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребёнка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре неискупленными слезами своими к „боженьке“!».
Часто разговор о психотерапии сворачивает на тему «слезинки ребёнка» и на рассуждения о том, можно ли ею заплатить за гармонию и всеобщее благо. Иначе говоря, можно ли страданиями других людей обеспечивать благополучие тех, кто обращается за помощью к психотерапевту. Этический вопрос, который преследует каждого добросовестного специалиста, работающего с людьми и их жизнями.
Это ведь Секрет Полишинеля: деятельность пси-специалиста, особенно если она эффективна, влияет на жизни людей, окружающих клиента. И порой влияет очень жёстко. Клиент меняется – меняются его отношения, его выборы, его границы. И не всем вокруг это нравится. Тогда речь идёт уже даже не о «слезинках», а об их суточном литраже.
Философ и логик Рудольф Карнап, думаю, даёт психотерапевтам шанс, называя такие мысли, как приведённая цитата Достоевского, бессмысленными. Я склонен с ним согласиться. А значит, появляются некоторые непростые, но значимые идеи, позволяющие сохранять достоинство и профессиональную дееспособность в присутствии аргументации «слезинок». Не обесценивая страдание, но и не позволяя ему парализовать нашу способность действовать.
Во второй главе моей книги важно будет понять намеренное и случайное в работе терапевта. И то, как его усилия по достижению значимых и желанных для клиента результатов влияют на этот самый результат. Что в нашей работе контролируется, а что происходит само собой? И как эти две силы взаимодействуют между собой?
Обычно у терапевта есть суждение о том, что он сделал, чтобы попасть в определённую точку терапевтического процесса. «Я применил такую-то технику», «Я задал такой-то вопрос», «Я использовал такую-то интервенцию». Но я уже акцентировал внимание на том, что, по Дэвидсону, событие не равняется описанию. Карта не территория. Кроме того, всем известен такой принцип, как «систематическая ошибка выжившего», – она также хронически воспроизводится в терапии. Мы помним и анализируем те случаи, где что-то сработало, и забываем те, где не сработало. А значит, наше представление о причинно-следственных связях в терапии неизбежно искажено.
Теории Куайна и Карнапа
Немного расскажу об Уилларде Ван Ормане Куайне, пожалуй, одном из самых влиятельных мыслителей XX века, философе, логике, математике.
Куайн говорит об онтологической относительности мира. Что это значит? Это значит, что не существует единственно правильного способа описать реальность. Любое наше знание – это всегда взгляд из определённой точки, с использованием определённых инструментов описания.
Знание о мире обусловлено научными теориями, которые используются. Куайн подчёркивает, что реальность вне языка и теории происходящего немыслима. Мы не можем выпрыгнуть из своей системы координат и посмотреть на мир «как он есть на самом деле». Человек предпочитает одни картины мира другим исключительно по прагматическим соображениям. Какая теория удобнее? Какая лучше объясняет? Какая позволяет лучше предсказывать? Вот критерии выбора, а не «истинность» в абсолютном смысле.
Куайн говорит: «Быть – значит быть значением связанной переменной». Эти его слова я вынес в эпиграф, так как мне они кажутся очень точными. Имеется в виду, что в зависимости от переменных среды, с которой пси-специалист связан, значение будет меняться. То, что я есть как терапевт, определяется системой отношений, в которую я включён. Меняется контекст – меняюсь я.
Все теории не определены в полной мере: с одной стороны, психотерапевт получает эмпирические данные – факты, чувственный опыт, очевидность. Клиент говорит то-то, делает то-то, чувствует то-то. А с другой, осмысление и интерпретация зависят от теории, на которую он опирается. Теория, в свою очередь, основана на данных прошлого, на которое специалист оглядывается. Это замкнутый круг: опыт интерпретируется через теорию, теория строится на основе опыта.
Эмпирические данные помогают отбросить теории, несоответствующие опыту. Если теория предсказывает одно, а происходит совсем другое – что-то с теорией не так. Но только эмпирические данные не могут дать единственно верную теорию. Возможно существование нескольких состоятельных и в одинаковой степени обоснованных альтернатив. Разные терапевты могут по-разному объяснять одно и то же явление – и все будут правы в рамках своих систем координат.
Следовательно, то, что происходит, то, как терапевт это видит, и то, как он может действовать, зависит от того, какими концептами он связан и как определяет реальность. В этом смысле намеренное и случайное в терапии – искусственный конструкт, который легко фальсифицировать. То, что один терапевт назовёт «запланированной интервенцией», другой увидит как «спонтанную реакцию». И оба будут по-своему правы.
Основной тезис гипотезы Куайна сводится к тому, что любой перевод – принципиально неопределённый. Каждый терапевт определяет текущие события на основании эмпирически созданной теории, которая может быть и истинной, и обоснованной, но никогда не исчерпывающей и полностью описывающей истину. Мы всегда работаем с приблизительными моделями, с упрощениями, с картами, которые никогда не станут самой территорией.
Более того, некоторые обоснованные переводы могут быть несовместимы друг с другом. Самый простой пример – слепые, описывающие слона. Они могут давать очень точные описания, классифицировать их, связывать и строить концепции слона, исчерпывающе описывающие его, но так никогда и не узнать, как этот слон выглядит на самом деле. Один щупает хобот и говорит: «Слон – это что-то вроде змеи». Другой трогает ногу и возражает: «Нет, слон – это колонна». Третий держится за хвост: «Вы оба неправы, слон – это верёвка с кисточкой». И все трое правы в своём опыте, но ни один не видит целого.