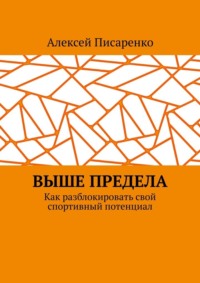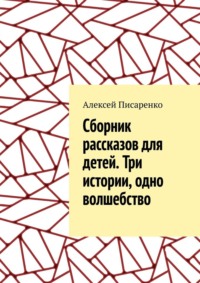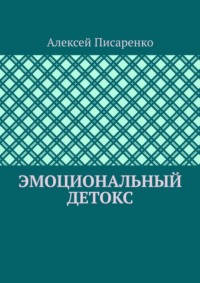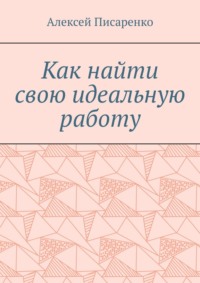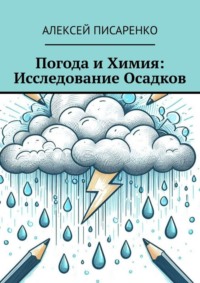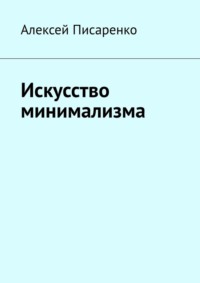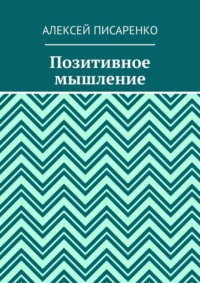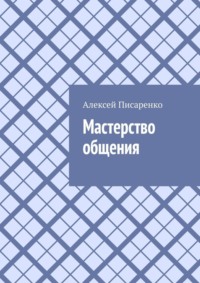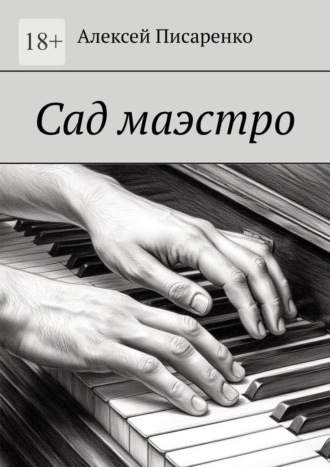
Полная версия
Сад маэстро

Сад маэстро
Алексей Писаренко
© Алексей Писаренко, 2025
ISBN 978-5-0068-2761-5
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Часть I: Фальшивые ноты
Глава 1: Разбитый триумф
1.1 Ожидание выступления
За тяжелым бархатным занавесом пахло пылью и старым страхом. Воздух был густым, пропитанным потом тысяч предыдущих выступлений, вобравшим в себя обрывки трепетных молитв и дурманящего успеха. Здесь, в этом полумраке, стояла настоящая, непарадная жизнь сцены.
Виктор Орлов стоял недвижимо, как скала. Сквозь массивную ткань доносился приглушенный, будто из другого измерения, гул зала – нетерпеливый, полный ожидания. Для него этот шум был белым шумом, фоном, лишенным смысла. Он не нервничал. Он презирал волнение, считая его уделом дилетантов, не овладевших своим ремеслом настолько, чтобы довериться мышечной памяти и холодному расчету. Для Виктора это была рутина, еще один ритуал в длинной череде ему же самим воздвигнутых алтарей.
Его руки, длинные, с тонкими, ухоженными пальцами аристократа или хирурга, лежали расслабленно вдоль тела, но внутри них жила своя жизнь. Кончики пальцев непроизвольно, едва заметно перебирали невидимые клавиши, проигрывая сложнейшие пассажи из его программы. Это была не разминка, а скорее проверка связи, подтверждение того, что совершенный инструмент – его тело – готово к работе.
Из зала донеслись аплодисменты. Вялые, вежливые, разрезанные паузами – аплодисменты-обязанность. «Дилетант», – беззвучно, одним движением нейрона, пронеслось в его сознании. Он даже не вспомнил, кто только что играл. Неважно. Все они были на одно лицо – старательные, бледные, напуганные собственным тщеславием. Его губы чуть тронула кривая, почти незаметная улыбка. Сейчас он выйдет и совершит не творческий акт, а технический демарш. Он обрушит на этот сонный, сытый зал такой водопад чистого, алмазного звука, такую лавину безупречной техники, что эти вежливые хлопки разорвутся в настоящий гром, в стоячую овацию, в капитуляцию.
Он почувствовал на себе чей-то взгляд и медленно повернул голову. Из противоположного крыла на него смотрела молодая скрипачка, следующая за ним по программе. Ее глаза были широко раскрыты, в них читалось немое восхишение, смешанное с робостью, будто она увидела не коллегу, а монумент. Виктор встретил ее взгляд, и его собственные глаза, серые и холодные, как озерная вода в ноябре, не выразили ничего. Ни одобрения, ни поддержки. Он просто отвел взгляд, будто отодвинул неодушевленный предмет. Его лицо, с резкими, высеченными чертами, осталось каменной маской, обращенной к занавесу.
Он ждал не музыки. Музыка была для него лишь средством, формулой, кодом. Он ждал капитуляции. И зал, затаивший дыхание по ту сторону бархата, уже был для него не собранием ценителей искусства, а крепостью, стены которой он вот-вот сравняет с землей.
1.2 Выступление
И вот он вышел. Не вышел – явился. Ровный, холодный свет софитов выхватил его из полумрака и вознес над залом, превратив в одинокий, величественный монолит. Он не пошел к роялю – он приблизился к нему, как фехтовальщик к барьеру, отмеряя шаги с безразличной точностью. Гробовая тишина, воцарившаяся в зале, была данью уважения, которую он принял как нечто должное, не более.
Он сел. Движение было лишено суеты, отточенно и экономично. Он не поправлял фалды фрака, не искал удобное положение. Он просто опустил руки на клавиши, и зал замер, затаив дыхание в ожидании чуда.
И чудо произошло. С первого же прикосновения родился звук – не робкий, не вопрошающий, а абсолютный, кристально чистый, как сколотый с самой вечности алмаз. Это был Бетховен. Аппассионата. Но не та, знакомая, бушующая, полная титанической борьбы и человеческих страстей. Нет. В руках Орлова она преобразилась в нечто иное.
Его пальцы, эти послушные демоны, порхали и вонзались в клавиатуру с пугающей, математической точностью. Каждая нота была на своем месте, каждый пассаж отточен до микрона. Скорость, с которой он играл, была сверхчеловеческой. Сложнейшие места, где другие пианисты замедлялись, собирая волю в кулак, он проходил на предельной мощности, с ледяным бесстрашием. Это была виртуозность, возведенная в абсолют. Демонстрация тотального, безраздельного владения инструментом.
Но в этой ослепительной технике не было души. Не было того сокрушительного отчаяния, той светоносной ярости, что заложил в музыку глухой гений. Была лишь сталь, отполированная до зеркального блеска. Он не проживал музыку – он инкрустировал ее, как ювелир холодные камни в бездушную оправу. Он строил не собор из звуков, а Вавилонскую башню, стремящуюся к небесам, но лишенную фундамента.
Зал слушал, завороженный и подавленный. Аплодисменты, когда отзвучал последний, подобный удару гильотины, аккорд, были оглушительными. Люди вскакивали с мест, кричали «браво», их лица были искажены восторгом, граничащим с исступлением. Но это был восторг перед цирковым трюком, перед акробатом, шагнувшим с троса над пропастью. Не перед музыкой.
Орлов встал. Он склонил голову в сухом, быстром поклоне – не благодарность, а скорее принятие дани. Его взгляд скользнул по рядам, по разгоряченным, аплодирующим лицам, и в его глазах не вспыхнуло ни искорки тепла. Он уже мысленно поставил галочку. Миссия выполнена. Капитуляция состоялась.
И тогда его взгляд упал на жюри. И застрял на лице старого маэстро Глинского.
Глинский не аплодировал. Он сидел, откинувшись на спинку кресла, его седые брови были слегка сведены, а пальцы сложены домиком у губ. Его взгляд, уставший и пронзительный, был устремлен на Виктора. И в этом взгляде не было восхищения. В нем была печаль. Глубокая, неизбывная печаль, словно он увидел не триумф, а чью-то смерть.
Когда грохот оваций начал стихать, председатель жюри, известный критик, взял микрофон, чтобы произнести несколько формальных слов. Но Глинский мягко, но твердо поднял руку, прося слова. Тишина в зале стала абсолютной.
«Виктор Орлов, – голос маэстро был тихим, но каждое слово падало, как капля, в мертвую тишину. – То, что мы только что услышали… это потрясающе. Я не припомню, чтобы за последние полвека кто-либо демонстрировал подобную техническую мощь. Это почти что… сверхъестественно».
Он сделал паузу, и в этой паузе висело неминуемое «но».
«Но, мой дорогой мальчик, – его голос дрогнул от искренней, неподдельной боли, – где же музыка? Я услышал перфекционизм. Я услышал сталь и лед. Я услышал блистательную, ослепительную пустоту. Ты играл ноты, все ноты, быстрее и чище, чем кто-либо. Но ты не играл Бетховена. Ты не играл ничего, кроме собственного величия. И это… это ужасающе одиноко».
Слова повисли в воздухе, раскаленные, как расплавленное железо. Кто-то в зале ахнул. Виктор стоял на сцене, не двигаясь, но по его спине пробежала холодная дрожь. Это была не критика, это было разоблачение. Это был приговор, вынесенный не завистником, а живым классиком, чье мнение было непререкаемым.
И вот тогда в Викторе Орлове что-то взорвалось. Вся его жизнь, вся его карьера, выстроенная на этом самом холодном совершенстве, была публично, одним движением, объявлена фальшивкой. Высокомерие, годами копившееся под тонким слоем светского лоска, прорвалось наружу ядовитым гейзером. Он сделал шаг к краю сцены, его лицо, до этого бывшее маской, исказила гримаса презрительной ярости. Он не стал ждать микрофона. Его голос, резкий и металлический, прорезал шоковую тишину зала.
«Вам, маэстро, – начал он, и каждое слово было отточенным кинжалом, – чей слух, видимо, остался в том веке, где музыка была сантиментальным рукоделием, должно быть, незнакомо понятие эволюции. Жаль, что вы, как и ваши вкусы, оказались неспособны к ней. Вы ищете душу? Она там, – он резким жестом указал на клавиатуру рояля, – в безупречности математики звука. В силе, которая не нуждается в ваших сантиментах. Вы просто не смогли ее услышать. И ваше невежество – не моя проблема».
Он закончил. В зале царила абсолютная, гробовая тишина. Даже дышать боялись. Никто не мог поверить в то, что только что произошло. Маэстро Глинский, побелев, медленно опустил голову, не в силах смотреть на это самоубийство, совершенное на его глазах.
На сцене, в ослепительном свете софитов, Виктор Орлов стоял, тяжело дыша, ослепленный собственной яростью. Он одержал свою пиррову победу. Он добился капитуляции. И в этой оглушительной тишине он впервые услышал зловещий треск – звук рушащейся под ним собственной карьеры.
1.3 Провал
Словно в замедленной съемке, Виктор видел, как микрофон, который он даже не помнил, что взял, выпал из его ослабевшей руки и с глухим стуком ударился о пол сцены. Этот звук – короткий, резиновый, абсолютно негероический – стал точкой, в которой лопнула напряженная тишина зала.
И поднялся ад.
Не шум, не гул – именно ад. Зал, секунду назад застывший в ступоре, взорвался хаотичным гамом из возгласов ужаса, негодования, и – что было для Виктора самым горьким – злорадного торжества. Кто-то вскрикнул: «Как он посмел!» Какая-то дама с аристократической выправкой, в жемчугах, демонстративно схватилась за сердце. Молодой человек в очках яростно что-то записывал в блокнот, его пальцы летали по странице с лихорадочной скоростью.
Но самое страшное были не они. Самое страшное были лица членов жюри. Маэстро Глинский поднялся, его седые брови сведены от боли, он что-то говорил своему соседу, качая головой, и в этом жесте была не злоба, а бесконечная жалость, которая жгла сильнее любого презрения. Другие отворачивались, избегая смотреть на сцену, словно Виктор был не человеком, а нравственным прокаженным, на которого неприлично смотреть.
И тут его настиг физический звук – первый щелчок фотокамеры. Резкий, как выстрел. Затем второй, третий. Вспышки, ослепляющие, безжалостные, превратили его из артиста в преступника, которого ведут по позорному коридору папарацци. Он стоял, застигнутый ими в центре освещенного пятачка, как подопытное животное, не зная, куда деться. Его цинизм, его броня из высокомерия рассыпались в прах, обнажив оголенный, недоумевающий стыд.
Из-за кулис, сбиваясь с ног, к нему бросился его агент, Артем. Лицо Артема было восковым, маска ужаса застыла на его обычно невозмутимых чертах.
– Что ты наделал?! – прошипел он, хватая Виктора за локоть с такой силой, что тому стало больно. – Ты понимаешь, что ты сейчас сделал?! Это конец! Конец!
Виктор позволил ему стащить себя со сцены. Его ноги были ватными, они не слушались. Последнее, что он увидел, оборачиваясь, – это взгляд той самой юной скрипачки. Но теперь в ее глазах не было ни восхищения, ни робости. Там был чистый, неподдельный ужас. И брезгливость. Она смотрела на него, как на чудовище.
За кулисами царил хаос. Группа техников замерла у мониторов, уставившись на него. Администратор конкурса, красный от ярости, что-то кричал в телефон. Артем, не отпуская его руки, буквально протащил его через эту толпу отчужденных, осуждающих лиц, по коридору, который казался бесконечным, к его артистической.
Дверь захлопнулась, отсекая внешний шум. Здесь было тихо. Слишком тихо. Пахло его собственным дорогим одеколоном и пылью. На вешалке висел его запасной, безупречно отглаженный фрак. На столе – бутылка минеральной воды, стакан.
Артем выпустил его руку и схватился за голову.
– Господи, Виктор… Глинский! Ты оскорбил Глинского! Ты знаешь, что это значит? Это значит, что ни один приличный зал в Европе тебе двери не откроет. Ни один оркестр не захочет с тобой работать. Ты стал изгоем. За один вечер!
Виктор молчал. Он подошел к раковине в углу и включил холодную воду. Он смотрел, как вода бьет по белой фаянсовой поверхности, но не решался поднести руки. Ему казалось, что они запачканы навсегда.
– Собирай вещи, – скрипуче прошептал Артем. – Надо убираться отсюда, пока нас не разорвали. Через главный вход нам уже не пройти.
Механически, как автомат, Виктор снял фрак, надел обычное пальто. Его пальцы дрожали, и он не мог застегнуть пуговицы. Артем, бормоча что-то под нос, вытащил его телефон из столика и сунул ему в карман.
– Не включай. Слышишь? Ни в коем случае не включай.
Но было уже поздно. Еще в коридоре, в кармане его пальто, телефон завибрировал один раз, потом еще и еще. Он не издавал звуков, но эти беззвучные вибрации были страшнее любого рева. Это была агония его репутации, доносящаяся из цифрового мира.
Они вышли через черный ход, в грязный, залитый желтым светом фонарей переулок. Пахло помоями и влажным асфальтом. Здесь их уже поджидали двое папарацци. Вспышки снова ослепили его. Он зажмурился, а Артем, прикрывая его собой, грубо оттолкнул одного из фотографов и почти втолкнул Виктора в подъехавший темный седан.
Машина тронулась. Виктор откинулся на кожаном сиденье и закрыл глаза. Внутри стояла та самая оглушительная тишина, которую он так жаждал перед выходом на сцену. Теперь она была не триумфальной, а мертвой.
Он не выдержал и вытащил телефон. Экран осветил его бледное лицо в темноте салона. Он был усыпан уведомлениями. Десятки сообщений. Пропущенные вызовы.
Он ткнул в иконку новостного агрегатора.
Первый же заголовок, выпрыгнувший на него, был подобен пощечине: «ВИРТУОЗ ЗЛА: Виктор Орлов уничтожил маэстро Глинского словом».
Ниже – другой: «Аппассионата высокомерия: как гений пианиста сгорел в пламени его собственного эго».
И третий, самый простой и потому самый убийственный, от ведущего музыкального блога: «Орлов сыграл свою лебединую песню. Фальшиво».
Он пролистал ленту. Мемы. Его фото с искаженным яростью лицом, с подписью: «Когда в твоем кофе недостаточно сливок». Гифки, где он кричит в микрофон, наложенные на танцующих котов. Гневные посты коллег, которые еще вчера лебезили перед ним. «Шок и негодование», «непрофессионализм высшей пробы», «позор для всего музыкального сообщества».
Он отшвырнул телефон. Он упал на коврик и продолжал тихо вибрировать, как раненый жук.
Виктор Орлов отвернулся к темному стеклу, за которым проплывали огни чужого, равнодушного города. Он не чувствовал раскаяния. Он чувствовал лишь одно – жгучую, ядовитую, всепоглощающую обиду. Обиду на Глинского, на этот зал, на весь мир, который не смог оценить его гений и осмелился его осудить.
Его мир, выстроенный на пьедестале безупречного техницизма, рухнул за один вечер. И он остался стоять на руинах в одиночестве, под градом насмешек и всеобщего презрения, с оглушительной тишиной внутри, в которой уже никогда не родится ни одной чистой ноты.
Глава 2: Неслышная мелодия
2.1 Симфония обычного дня
Лёшино утро начиналось не с будильника, а со скрипа двери в ванную – старого, дребезжащего скрипа, который на одной-единственной ноте возвещал начало нового дня. Этот звук был надежнее любого электронного сигнала. Он врезался в полусонное сознание, мягкий и настойчивый одновременно, как приглашение к привычному ритуалу.
Потом вступали другие инструменты этого домашнего оркестра. Шипение воды из-под крана, ударявшейся о эмалированную раковину. Глухой стук чайника, который мама ставила на плиту в кухне. Ее голос, еще не проснувшийся, бархатистый, доносящийся сквозь стену: «Лёш, вставай, пора». Эти звуки были утешительными в своей предсказуемости. Они выстраивались в некую незримую партитуру, где у каждого было свое место, свой такт и своя длительность.
Он вставал с кровати, и его босые ноги погружались в ворс слегка потертого коврика. Комната была маленькой, но в ней царил свой, тщательно соблюдаемый порядок. Книги на полке, модели кораблей на столе, простыня, туго натянутая на кровать. Солнечный свет, пробивавшийся сквозь тюлевую занавеску, рассеивался в пылинках, танцующих в воздухе медленный, немой вальс.
За завтраком царила тихая, созерцательная атмосфера. Мама наливала ему чай, и он следил за тем, как струя попадает в кружку, рождая свой собственный, меняющийся тембр – от звона до глухого бульканья. Он разламывал хлеб и прислушивался к хрусту корочки. Мир для него не был немым. Он был насыщен звуковой фактурой, которую Лёша воспринимал с остротой, недоступной другим.
Дорога в школу превращалась в настоящую аудиальную экскурсию. Он не надевал наушники, как большинство его одноклассников, погружаясь в готовые, упакованные миры чужой музыки. Его мир был здесь. Стук колес трамвая по рельсам – это был мощный, неумолимый ударный инструмент, ритм которого диктовал скорость движения всего города. Перестук каблуков по асфальту создавал сложный полиритмический рисунок. Отдаленный гудок машины, доносившийся с проспекта, – далекий, тоскливый духовой инструмент.
Он шел, слегка ссутулившись, руки в карманах куртки, и его внутренний слух безошибочно вычленял из общего хаоса отдельные голоса. Вот девушка смеется – это звук, похожий на звон хрустальных колокольчиков. Вот старик кашляет – сухой, дребезжащий звук контрабаса, где смычком служит сама жизнь. Даже шум ветра в голых ветках деревьев он слышал не как монотонный шорох, а как сложное, многоголосое шипение симфонической тарелки.
Он не просто слышал – он слушал. И в этом было его главное, никому не видимое отличие. Пока другие отмахивались от городского шума как от досадной помехи, Лёша бессознательно искал в нем гармонию, ритм, мелодию. Его внутренний камертон был всегда настроен на прием, и каждая прогулка по улице была для него подобна прослушиванию грандиозной, бесконечно импровизирующей симфонии обычного дня. Он шел в школу, а в его голове уже рождалась неслышная никому музыка, сотканная из стука, звона, шепота и гула большого города.
2.2 Тайный ритуал
Возвращаясь из школы, Лёша ощущал странное, знакомое каждому дню чувство – смесь нетерпения и священного трепета. Его шаги по лестничной площадке становились тише, а сердце начинало биться чуть чаще, как будто он приближался не к двери своей квартиры, а к порогу храма.
Переступив порог, он проделывал неизменный обряд: снимал куртку, аккуратно вешал ее на крючок, мыл руки – долго и тщательно, счищая с пальцев не только уличную грязь, но и весь шумный, суетливый мир, оставшийся за спиной. Только завершив эту церемонию очищения, он позволял себе войти в свою комнату.
Его взгляд сразу же находил свою цель, свой алтарь. В углу, под покрывалом из слегка выцветшей ткани, стояло пианино. Не рояль, а именно скромное, вертикальное пианино «Эстония» с потертой черной полировкой, на которой узором лежали тончайшие трещинки-паутинки. Оно досталось им от старой соседки-пианистки, которая перед отъездом в дом престарелых сказала его матери: «Пусть постучит, Анна. Инструмент должен жить, даже если это будут не шедевры». Эти слова Лёша помнил дословно.
Он снимал покрывало с почти церемонной медлительностью. Покрывало, пахнущее нафталином и стариной, ложилось на стул. Перед ним представал инструмент во всей своей величественной, хоть и потрепанной красоте. Он провел кончиками пальцев по деревянной панели над клавиатурой, чувствуя под кожей легкую вибрацию – незримую пульсацию, казалось, все еще хранящую эхо тысяч сыгранных когда-то мелодий.
Затем он доставал из ящика стола свою главную реликвию – старый mp3-плеер с потрескавшимся экраном и наушниками, у которых одна дужка была перемотана изолентой. Он включал его. Единственная запись, которая его интересовала: Виктор Орлов. Аппассионата.
Надев наушники, он закрывал глаза. И мир взрывался.
В его сознании возникал Орлов. Не человек, а сила природы. Звук обрушивался водопадом алмазной чистоты, каждый пассаж был отчеканен с леденящей душу точностью. Лёша замирал, вслушиваясь в эту бурю, пытаясь разложить ее на молекулы, понять, как это возможно – быть таким могущественным, таким абсолютным в своем владении звуком.
Когда запись завершалась, наступала его очередь. Он снимал наушники, и комната погружалась в оглушительную, давящую тишину после услышанного грома. Его пальцы, еще неуверенные, с едва заметной дрожью, опускались на клавиши. Они казались ему чужими, непослушными, сделанными не из плоти, а из дерева.
Он пытался. Снова и снова. Он бился над тем самым сложным местом, которое у Орлова звучало как единый, сокрушительный порыв. Но из-под его пальцев рождалось нечто корявое, робкое, состоящее из спотыкающихся нот и фальшивых аккордов. Звук был плоским, лишенным обертонов и глубины, которые заставляли плакать в записи Орлова. Его левая рука отставала от правой, пальцы путались, нажим был то слишком слабым, то внезапно грубым, и пианино отвечало на это дребезжащим, обиженным стуком.
Лоб его покрывался испариной. Мышцы предплечья начинали ныть от непривычного напряжения. Иногда он с такой силой вжимал клавишу, что ноготь белел от натуги, и в тишине комнаты слышалось его собственное, сдавленное дыхание. Он стискивал зубы, и в его глазах, обычно мечтательных, загорался огонь упрямого, почти отчаянного сосредоточения. Он не злился. Он вел борьбу. Молчаливую, изнурительную дуэль с самим собой и с этим неподатливым инструментом.
Дверь в комнату приоткрывалась на несколько сантиметров. В щели возникало лицо его матери, Анны. В ее глазах жила сложная, многослойная эмоция. Глубокая, безграничная любовь к этому упрямому, странному мальчику. Острая, щемящая жалость, когда она слышала эти корявые, фальшивые звуки и видела его сгорбленную спину. И тревога. Тихая, постоянная тревога, словно она наблюдала, как ее сын пытается голыми руками вырубить путь в гранитной скале. Она стояла молча, не решаясь нарушить его концентрацию, и через мгновение так же тихо притворяла дверь, оставляя его наедине с его титанической, никем не видимой битвой за музыку.
2.3 Музыка внутри
Отчаяние было тихим и глубоким, как вода в заброшенном колодце. Оно подступало не рыданием, а ледяной тяжестью в животе, когда Лёша в очередной раз услышал жалкий, дребезжащий звук, который его пальцы выжали из инструмента вместо мощного бетховенского аккорда. Он отдернул руки от клавиатуры, словно обжегшись. Они лежали на его коленях, беспомощные и чужие, отдавая тупой болью в перетружденных суставах. Наушники, из которых доносилась запись Орлова, внезапно показались ему не источником вдохновения, а орудием пытки. Он с силой сорвал их с головы и отшвырнул прочь. Плеер упал на ковер с глухим стуком.
В комнате воцарилась тишина, но на этот раз она была иной – не ожидающей, а опустошенной. Он сидел, сгорбившись, его взгляд упирался в желтовато-слоновые клавиши, эти черно-белые костяшки, хранившие в себе насмешку над его наивными мечтами. В ушах стоял оглушительный гул провала. Он был слишком мал, слишком слаб, слишком бездарен для этой музыки. Между ним и Орловым лежала не просто пропасть, а целая вселенная.
Минуты тянулись, медленные и тягучие. Лёша почти смирился, готовый захлопнуть крышку пианино и признать свое поражение. Но тут его взгляд, блуждавший по комнате, упал на луч закатного солнца, который пробивался сквозь окно и падал на клавиши, выхватывая из полумрака полоску слоновой кости, теплую, почти живую.
Что-то щелкнуло внутри. Не мысль, а ощущение. Побуждение. Осторожно, почти не дыша, он снова поднял руки. Но на этот раз он не собирался никого копировать. Он закрыл глаза, отсекая внешний мир, и погрузился в тот внутренний ландшафт, что всегда жил в нем, – в мир, сотканный из утреннего скрипа двери, ритма трамвая, шепота дождя и тихого голоса матери.
Его указательный палец опустился на одну-единственную клавишу. Чистый, чуть вибрирующий звук повис в воздухе. Он не думал о нотах, о аппликатуре, о правилах. Он слушал. Слушал тишину после этого звука. Потом его мизинец нашел другую ноту, на октаву выше. Они не составляли аккорда из учебника гармонии, но вместе они рождали чувство – легкую, щемящую грусть.
И тогда его пальцы ожили. Но не как послушные солдаты, отрабатывающие команды, а как слепые исследователи, нащупывающие путь в незнакомой, но бесконечно желанной стране. Они блуждали по клавиатуре, медленно, неуверенно, иногда спотыкаясь, находя не мелодию в классическом понимании, а нечто большее – звуковую ткань.
Рождалась импровизация. Простая, наивная, лишенная виртуозной сложности. Правая рука выводила хрупкий, вопрошающий мотив, похожий на падающие капли. Левая осторожно подкладывала под него мягкие, густые басы, как будто землю под ногами. Звук был далек от идеала – где-то недожато, где-то фальшиво, но в нем не было ни капли фальши другого рода – душевной.