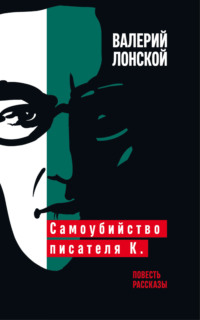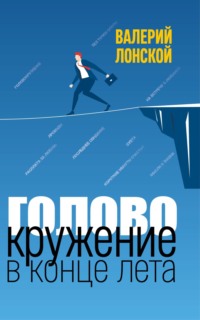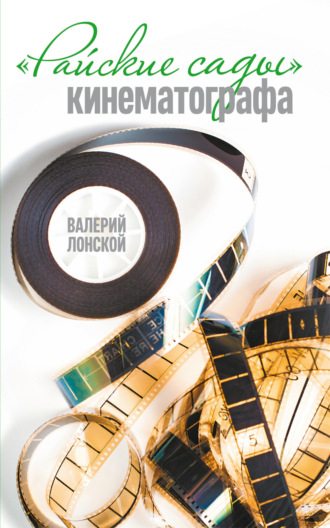
Полная версия
Райские сады кинематографа
Бондарчук прочел литературный сценарий «Взлетная полоса», был потрясен его низким художественным уровнем и не стал читать режиссерский сценарий, решив, что он ненамного лучше. Об этом я узнал лишь некоторое время спустя, после целого ряда печальных событий, последовавших за этим.
Бондарчук подверг сценарий на худсовете жесткой критике. И картину закрыли. Был такой термин на «Мосфильме». «Закрыли» – то есть остановили производство фильма. Иногда фильм закрывали навсегда, иногда временно. Мы с Шамшуриным, ожидавшие иного результата, были буквально раздавлены. «Что же нам делать?» – спрашивали мы у Сергея Федоровича. «Ищите хорошего драматурга, который сумеет переделать сценарий и доведет его до художественного уровня, – ответил Бондарчук. И предложил: – Вон Гена Шпаликов сидит сейчас без дела. Пригласите его… Он – мастер!»
Легко сказать: пригласите Шпаликова! Литературный сценарий утвержден в Кинокомитете, гонорар авторам выплачен за него полностью. К тому же сами авторы считают, что написали хороший сценарий и нет нужды кого-то еще приглашать для его исправления. Мы оказались в тупиковой ситуации.
И все же желание работать победило. Мы связались с Геннадием Шпаликовым, ярким драматургом, имя которого было овеяно славой в кинематографической среде в шестидесятые годы. Фильмы по его сценариям «Я родом из детства», «Застава Ильича», «Я шагаю по Москве» знали все. Кроме того, сам он как режиссер поставил талантливую картину «Долгая счастливая жизнь».
Я был шапочно знаком со Шпаликовым. Еще до учебы во ВГИКе я работал на кинокартине «Застава Ильича» (реж. М. Хуциев), которая снималась на Киностудии имени М. Горького, и Шпаликов, будучи автором сценария этого фильма, нередко появлялся на съемках в павильоне, где мы и познакомились.
Мы с Шамшуриным позвонили Шпаликову и договорились с ним о встрече.
Надо сказать, у Шпаликова в то время был трудный период в жизни. Несколько сценариев его были отклонены начальством Госкино. Он сидел без работы. Пил. Часто ссорился с женой, нередко уходил из дома, ночевал, скитаясь по приятелям и знакомым. Многие прежние друзья из-за такого образа жизни сторонились его.
И тут появляемся мы со своей проблемой. И что мы, начинающие режиссеры, могли ему предложить? Работу литературного «негра». Не более того. Чтобы он, без упоминания его фамилии в титрах, за наши личные деньги переделал сценарий. Для оплаты его работы мы с Шамшуриным, вчерашние студенты, наделав долгов, собрали сумму в четверть гонорара, положенного в те годы кинодраматургу за сочинительство. Трех авторов «Взлетной полосы» нам с немалым трудом удалось уговорить на переделку сценария. Мы пообещали им, что от них не потребуется денег и в титрах не будет четвертой фамилии. Получили на это «добро» и главного редактора Первого объединения Валерия Карена, сменившего к этому времени на этом посту Л. Нехорошего, ставшего теперь главным редактором «Мосфильма».
Шпаликов согласился на наши условия. Он крайне нуждался в деньгах и хотел работать.
Втроем мы засели в моей квартире в доме на Зеленодольской улице в Кузьминках (Шпаликов находился там безвылазно – таково было наше условие), и работа началась. Предварительно мы обсуждали какую-либо сцену, затем Гена садился за пишущую машинку и сочинял. В эти дни Шпаликов не пил, принимал успокоительные лекарства и работал по шесть-семь часов в день. Надо отдать должное моей жене Надежде, которая взяла на себя все заботы по обеспечению его всем необходимым.
Вечерами, закончив работу, за чаепитием мы вели долгие беседы на самые разные темы. Гена был весьма интересным собеседником. И занимательные его рассказы доставляли нам немалое удовольствие. Подобное времяпровождение длилось восемь или девять дней. Это были счастливые дни, запомнившиеся мне навсегда.
Шпаликов успешно потрудился, переделывая сценарий, нашел ряд интересных решений, изменил кое-что композиционно, ярче прописал характеры и внес немало запоминающихся деталей. Мы с Шамшуриным остались довольны.
Два дня потребовалось на перепечатку текста у машинистки, и вскоре готовый сценарий в количестве трех экземпляров лежал на столе у главного редактора объединения В. Карена.
Увы, наши с Шамшуриным хождения по мукам на этом не закончились.
Вернувшись из Кузьминок к себе домой и, поругавшись в очередной раз с женой, издевательски заявившей ему, что он поступил глупо, согласившись работать «негром», да еще за такие небольшие деньги, Шпаликов, крепко выпив, явился на следующий день к главному редактору Карену, устроил скандал и потребовал, чтобы ему выплатили половину гонорара, причитающегося авторам за сценарий, и в дальнейшем поставили его фамилию в титры. После таких требований возмущенный Карен заявил, что он знать ничего не хочет про шпаликовский сценарий, при нас с Шамшуриным выбросил все три экземпляра в мусорную корзину и посоветовал забыть о нем навсегда. Взамен этого пообещал сделать все возможное, чтобы убедить Бондарчука дать согласие на съемку сценария, который был написан основными авторами.
И опять решение вопроса зависло в воздухе. Наша «безработная» жизнь продолжилась. Подобное положение длилось уже несколько месяцев.
Устав ждать и не веря больше в успех нашего бесперспективного дела, Шамшурин стал заниматься новым проектом. Ему и двум другим молодым режиссерам, Виталию Кольцову и Сергею Ерину, предложили снимать альманах, состоящий из трех новелл, по рассказам писателя Дмитрия Холендро. С Холендро заключили договор на написание сценария, и вместе с режиссерами он начал работу. (К слову сказать, этот фильм так и не состоялся.)
Я же, оставшись один, лишенный каких-либо перспектив, продолжал обивать пороги нашего объединения, главной редакции студии, которые в свое время утвердили сценарий «Взлетной полосы», чтобы те, кто принимал в этом участие, повлияли на Бондарчука и тот дал бы «добро» на новый запуск сценария в производство.
К давлению на Бондарчука подключилась и Марина Попович, в тот период жена космонавта Павла Романовича Поповича, пользовавшегося, как и все первые космонавты в нашей стране, большой всенародной любовью и уважением чиновников. Со скрипом дело все же сдвинулось с мертвой точки. Сергей Федорович был человеком добрым, отходчивым, и, случалось, давал слабину, жалея самых разных людей, стараясь им как-то помочь.
Итак, в феврале 1973 года я повторно – теперь уже один, без сорежиссера – был запущен в режиссерскую разработку. Имея на руках талантливый сценарий Г. Шпаликова, я был вынужден работать с прежним вариантом. И все же постепенно, шаг за шагом, мне удалось перетащить в исходный сценарий некоторые сцены и детали из сценария Шпаликова.
На новом этапе мне пришлось работать уже с другой творческой группой: Брожовский и Мешкова, не дождавшись повторного запуска, ушли на другие проекты.
Теперь оператором-постановщиком был назначен Игорь Черных, дотошный, преданный своему делу профессионал, снявший до нашей встречи ряд хороших картин, среди которых «Аленка» (реж. Б. Барнет), «Большая дорога» (реж. Ю. Озеров), «Бриллиантовая рука» (реж. Л. Гайдай). Художником-постановщиком стал Борис Немечек, талантливый мастер, остроумный человек, участвовавший в создании фильмов «Баллада о солдате» и «Чистое небо» (реж. Г. Чухрай), «У твоего порога» (реж. В. Ордынский), «Берегись автомобиля» (реж. Э. Рязанов) и др.
Борис Немечек работал в паре со своей женой, Элеонорой Немечек, являвшейся художником-декоратором. В последующие годы Элеонора Немечек, после смерти мужа, работала со мной в качестве художника-постановщика на трех картинах, и я благодарен судьбе за это.
Вторым режиссером на картину был назначен Леонид Васильевич Басов, старейший работник студии, бывший в пятидесятые годы заместителем И. Пырьева, когда тот руководил «Мосфильмом», являясь генеральным директором. Теперь Басов стал пенсионером, сменил род деятельности и время от времени работал в съемочных группах. Второй режиссер, надо признать, он был средний, но благодаря своему авторитету умел успешно решать необходимые производственные вопросы. Что было на пользу картине. Кроме того, он познакомил меня с некоторыми известными кинематографистами, и в частности с несравненной Любовью Петровной Орловой, с которой он был в дружеских отношениях. Знакомство с Орловой и полтора часа, проведенные с нею в личном общении в тот день, запомнились мне навсегда…
Переделки, которые были внесены в сценарий во время режиссерской разработки, на этот раз, в общем-то, с оговорками удовлетворили Бондарчука, и съемочную группу запустили в подготовительный период. Началась обычная для этого этапа работа: планирование объектов и сроков съемок, написание эскизов декораций, выбор натуры.
Начались поиски актеров. Особенность этого процесса заключалась в следующем. События в сценарии развивались в двух временных пластах: в годы войны, когда главные герои были молоды, и в настоящее время, то есть в 1973 году, где герои стали старше на тридцать лет. Мне не хотелось в сценах военного времени и в сценах, относящихся к сегодняшнему дню, снимать разных актеров (совсем молодых и пятидесятилетних). Хотелось, чтобы оба возраста сыграли одни и те же исполнители – из тех, что будут постарше. Это определенным образом усложнило задачу. Нужны были актеры, которых с помощью грима можно было сделать значительно моложе относительно их собственного возраста.
В результате долгого поиска, проб грима и многочисленных кинопроб на главные роли были утверждены следующие актеры: Игорь Ледогоров (стал летчиком Иваном Клиновым, побывавшим у немцев в плену и после войны в сталинских лагерях), Лариса Лужина (стала Надеждой, воевавшей в одном полку с Клиновым и любившей его), Владимир Заманский (стал Дмитрием Грибовым, ставший другом главного героя, дослужившимся в послевоенные годы до генерала и ставшим в будущем мужем Надежды).
С участниками современных сцен было проще. На роль Ирины, дочери Надежды, я пригласил Наташу Бондарчук, с которой мы учились в одно время во ВГИКе и поддерживали дружеские отношения. (Сам С. Ф. Бондарчук, следует отметить, отнесся довольно сдержанно к утверждению дочери на эту роль.) Роль летчика-испытателя Ягодкина досталась актеру театра «Современник» Владимиру Земляникину, моему близкому приятелю, который снимался еще в моих студенческих фильмах. На роль Клавдии, жены Клинова, была утверждена Зинаида Кириенко. До Кириенко я пробовал на роль Клавдии талантливую актрису Люсьену Овчинникову, и она очень подходила на эту роль, но от Овчинниковой пришлось отказаться из-за ее пристрастия в этот период к алкоголю (Овчинникова даже на важную для нее кинопробу пришла нетрезвой). Я не мог рисковать.
Еще об одном актере, принимавшем участие в наших кинопробах, хочу вспомнить. Это был Олег Янковский. Я пригласил его на роль Бориса, конструктора, мужа Ирины. Янковский на пробах был хорош, точен. Но имела место одна деталь: в тот период Янковский носил усы и категорически отказался их сбривать. А мне виделся в этой роли исполнитель без усов. Так мы и разошлись, не договорившись, о чем я жалел впоследствии. Конечно, надо было мне согласиться: черт с ними, с усами! Но я был молод, амбициозен и не хотел прогибаться под артиста, приглашенного на роль второго плана.
И вот исполнители ролей утверждены, натура выбрана, цеха приступили к разработке декораций. Наступил радостный момент – я со своими товарищами вошел в долгожданный съемочный период.
Натуру мы снимали на трех аэродромах: в Монино под Москвой (военные эпизоды), в Краснодаре и в Дягилево под Рязанью (сцены, показывающие современную авиацию). Нам повезло: руководство ВВС назначило главным консультантом на картину генерал-лейтенанта авиации Ивана Федоровича Мадяева, доброжелательного, интеллигентного человека весьма либеральных взглядов, любящего кино. Только благодаря его усилиям при съемках аварийного падения истребителя для нас подняли в воздух на вертолете с помощью тросов и сбросили с большой высоты вниз, а затем еще и подорвали истребитель МИГ-21. Ведь тогда ни о какой компьютерной графике и речи не было. Кроме того, с помощью И. Ф. Мадяева съемочная группа впервые смогла показать на экране истребитель МИГ-23. В этой связи вспоминаю курьезный случай, рассказанный тем же Иваном Федоровичем. Долгое время истребитель МИГ-23 запрещалось снимать в игровом кино. В эту пору Мадяев оказался по делам службы в ФРГ, в Гамбурге. Приехав в аэропорт, он остановился у газетного киоска, чтобы купить газету, и увидел в продаже несколько моделей боевых самолетов разных стран. Среди них был и советский МИГ-23, с подробным описанием всех его технических характеристик. Удивлению генерала не было предела.
Про съемочный период подробно рассказывать не имеет смысла. Скажу только, что группа трудилась дружно и дело спорилось. Актеры, особенно «старики» – Ледогоров, Лужина и Заманский, – были увлечены своим делом и старались всегда помочь мне, если возникали затруднения – ведь я снимал свою первую полнометражную картину и не имел необходимого опыта.
Был, правда, во время съемочного периода один случай, который подпортил общую положительную картину.
В те годы актерским отделом «Мосфильма» руководил Адольф Михайлович Гуревич, человек весьма неприятный, с замашками самодура, проявлявшимися в его отношениях с рядовыми актерами из числа ему подчиненных и начинающими режиссерами. В свое время на одном из профсоюзных собраний актер Л. Г. Пирогов, наблюдая, как Гуревич унижает штатных актеров, громко заявил ему: «Вы знаете, Адольф Михайлович, хорошего человека Адольфом не назовут!» В описываемое время на «Мосфильме» существовало положение, утвержденное генеральным директором студии: при выборе актеров приглашать в обязательном порядке на роли второго плана и ролевые эпизоды в основном только штатных артистов киностудии. От такого положения вещей страдали в первую очередь те же начинающие режиссеры, не имевшие достаточного авторитета. Им насильно навязывали штатных артистов, лишая свободы выбора, и они мало что могли с этим поделать. И следил за исполнением этого дурацкого положения А. Гуревич. Так вот этот самый Гуревич запретил мне снимать в небольшой, но весьма существенной по смыслу роли артиста Евгения Евстигнеева. Взамен мне было предложено взять на эту роль малодаровитого штатного артиста, находившегося в это время в простое. Гуревич в категорической форме требовал, чтобы я снимал только этого артиста. И когда я все же, наперекор ему, потратив немало усилий, отснял в данной роли Е. Евстигнеева, сыгравшего ее с блеском, начальник актерского отдела отказался выплатить Е. Евстигнееву гонорар. Дело дошло до скандала! Очень жалею, что впоследствии сцену с участием Евстигнеева пришлось вырезать из фильма по настоятельному требованию директора студии Н. Сизова. Слишком откровенно свидетельствовала она, по мнению Сизова, о непростой, лишенной блеска жизни бывших фронтовиков, оказавшихся ненужными в мирное время, а такой подход к показу на экране фронтовиков у тогдашних идеологов был не в чести!
Но вот съемки завершены. Группа приступила к монтажу картины. Готовую сборку фильма следовало показать – таков был порядок – художественному совету объединения, куда, помимо редактуры и руководства, входили авторитетные режиссеры, операторы, художники. В тот день, когда мы показывали собранную картину художественному совету, Бондарчука в Москве не было, он находился в командировке за границей. Картину принимали директор объединения, главный редактор и заместитель Бондарчука по работе художественного совета – Г. В. Александров. Был на худсовете и мой мастер, Ефим Львович Дзиган.
Сдача картины на худсовете прошла успешно. Съемочную группу хвалили, мне, как режиссеру-дебютанту, было сказано немало хороших слов. Нас поздравили с успехом. Поздравил меня и Дзиган с удачной работой. Я был счастлив.
Но, как оказалось, радость съемочной группы и моя была преждевременной. Через три дня картина была представлена на суд директора «Мосфильма» Н. Сизова и главной редакции студии. И вот здесь-то и произошла катастрофа, чего ни я, ни мои товарищи по работе над фильмом никак не ожидали.
Прежде чем об этом рассказать, следует кое-что пояснить.
Картина наша, отныне получившая название «Небо со мной», рассказывала о драматической судьбе боевого летчика Ивана Клинова. Клинов был сбит в воздушном бою. Контуженный, с трудом приземлился на вражеской территории. Застрелиться не смог. Оказался в немецком концлагере. Пытался бежать оттуда – неудачно. Когда кончилась война, был осужден за то, что находился в плену, и провел в советских лагерях десять лет, пока не был реабилитирован в 1955 году. Только после этого Клинов сумел вернуться к нормальной жизни. Но многое, увы, уже было безвозвратно утеряно.
ХХ съезд партии и доклад на нем главы советского государства Н. С. Хрущева, осудившего культ личности Сталина, взволновавший в свое время советское общество, после чего стало возможным открыто говорить о беззакониях сталинского режима – всё это к 1974 году осталось далеко позади. Оттепель закончилась. У власти уже восемь лет находился Л. И. Брежнев, человек весьма расположенный к Сталину и его деятельности. Постепенно последовал откат от решений ХХ съезда, из произведений искусства раз за разом стала исключаться тема «культа». А потом она и вовсе исчезла. В феврале 1974 года из страны был выслан Александр Солженицын. На другой день после высылки А. Солженицына был издан приказ на государственном уровне, запрещавший произведения писателя и санкционировавший изъятие его книг из библиотек и книготорговой сети… Неоднократно, будучи участником различных художественных советов, я был свидетелем того, как из мосфильмовских лент вымарывались сцены и мотивы, связанные с беззаконием сталинского времени. Будто этого беззакония и не было вовсе.
Итак, в дирекции студии состоялся просмотр нашего фильма. После просмотра директор Сизов вышел из просмотрового зала с мрачным лицом человека, оскорбленного в лучших чувствах. На обсуждении он заявил, что молодой режиссер (то есть я) не оправдал надежд, возлагавшихся на него, и снял плохую картину. Говорить в открытую о том, что всему виной явилась «тема культа личности Сталина», отчетливо прозвучавшая в фильме, он не стал. Видимо, было не совсем удобно. А то, что причина «неудачи» крылась именно в этом, я узнал некоторое время спустя от вернувшегося из поездки С. Бондарчука.
А тогда на худсовете Н. Сизов буквально уничтожил меня, говоря о моем якобы непрофессионализме. И то в картине, по его словам, не получилось, и другое, и третье. И сотрудники Первого объединения, горячо хвалившие картину тремя днями ранее, либо молчали, ошарашенные такой оценкой, либо вынужденно поддакивали ему. Жаль, в этот момент не оказалось рядом Е. Дзигана, который непременно встал бы на мою защиту, невзирая ни на какие авторитеты. Но он не приехал, уверенный после похвал на худсовете объединения, что все будет в порядке. Мои товарищи по работе – Черных, Немечек, Басов – были потрясены результатом обсуждения картины в генеральной дирекции.
Отделался молчанием на обсуждении и Г. В. Александров, замещавший С. Бондарчука в его отсутствие, человек весьма непростой, прошедший сложную школу жизни в сталинское время. Что касается оценочных суждений, Григорий Васильевич редко высказывался определенно, только если была полная ясность во мнении вышестоящего начальства. А так мастер кинокомедий отделывался общими фразами идеологического толка.
Вообще Григорий Васильевич Александров был вещью в себе. При всем внешнем дружелюбии он был очень закрытым человеком. Рассказывая где-либо о своей жизни и работе над своими комедиями, он мало сообщал подлинных фактов, а любил, мягко выражаясь, присочинить то, чего не было. Я был свидетелем любопытной сцены. Однажды Александров вместе с Л. Орловой, будучи на студии, зашли в кабинет директора Первого объединения Л. Канарейкиной, где в это время находились несколько сотрудников, и я в том числе, и остались пить вместе с нами чай. Александров все время что-то бодро рассказывал своим обычным несколько простуженным голосом, и когда его заносило в сторону сочинительства, Орлова останавливала его упреждающим восклицанием: «Григорий Васильевич!..» И Григорий Васильевич сбавлял обороты, стараясь держать в рамках свою неуемную фантазию. Потом он забывался и опять начинал привирать. В тот день на чаепитии Александров стал рассказывать историю о том, как во время Гражданской войны он по заданию большевиков работал в поезде белого генерала Шкуро электромонтером и передавал красным разведданные. Услышав это, Орлова вновь воскликнула подчеркнуто упреждающим тоном: «Григорий Васильевич!..» И опять Александров вынужден был сбавить ход и остудить свою фантазию.
Недавно по каналу ОРТ был показан сериал «Любовь Орлова и Григорий Александров». Герои далеки от реальных Орловой и Александрова, как Улан-Батор от Москвы. Создалось ощущение, что актеры на роли героев выбирались по принципу: чем меньше они внешне похожи, тем лучше. Это вообще тенденция сегодняшнего дня – не думать о сходстве актеров с историческими персонажами, которых они воплощают на экране. Особенно отвратительно выглядело поведение героя сериала (арт. А. Белый) в сценах, где он по воле драматургов и режиссера пытается встать на защиту сначала арестованного органами НКВД драматурга Николая Эрдмана, а потом оператора Владимира Нильсена, снимавшего с Г. Александровым фильмы «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга»; он был больше чем оператор – он был сорежиссером на этих картинах и автором многих трюков. Ничего подобного в жизни не происходило. Александров был человек крайне осторожный. Очень лояльный к советской власти, разделявший ее идеологию. И никого из числа своих знакомых, попавших под арест, никогда не пытался защитить. Безответственно делать из такого осторожного человека отважного героя. По рассказу вдовы оператора В. Нильсена балерины Иды Пензо, Григорий Александров, узнав от нее об аресте мужа, настолько был перепуган, что потерял дар речи. А потом, выступая на собрании творческих работников кино, признался в отсутствии у него бдительности, ссылаясь «на гипнотическую силу Нильсена».
Но вернемся к несправедливой критике фильма «Небо со мной» на обсуждении в генеральной дирекции «Мосфильма». Не знаю, удалось бы мне пережить все это, если бы в тот вечер я не выпил бутылку водки. Только это и спасло! А утром, на следующий день, дышать уже стало легче.
Когда через несколько дней вернулся из-за границы С. Бондарчук, выяснилось, как я уже говорил, в чем суть дела. Сизов вызвал его к себе в кабинет и недовольно заявил: «Что же это, Сергей… У тебя в объединении делают антисоветские картины, а ты и в ус не дуешь!» Только после этого заявления директора «Мосфильма» стало ясно, где собака зарыта. Николай Трофимович Сизов был в целом приличным человеком и неплохим руководителем, но здесь он поступил жестоко, облыжно обвинив молодого режиссера в неумении работать и не объяснив прямо, в чем причина такой жесткой оценки.
Следует отметить, что С. Бондарчук, срочно посмотревший после этого фильм, будучи человеком искренним и эмоциональным (он не раз смахивал слезу во время драматических моментов), твердо встал на мою защиту. Он резко отверг обвинения в непрофессионализме, уточнил суть предъявленных картине идеологических обвинений и помог мне, хотя и с художественными потерями, довести начатое дело до благополучного конца. За это я ему бесконечно благодарен. Но тема культа личности вывалилась из фильма, как из телеги мешок с зерном на сельской дороге. Мне пришлось, следуя советам Бондарчука и требованиям Сизова, вырезать ряд сцен, одна из которых была особенно дорога мне (это сцена в вагоне метро, где беседовали о своей нынешней жизни два бывших фронтовика, обделенных судьбой, – герои И. Ледогорова и Е. Евстигнеева). Кроме этого, пришлось переозвучить текст в ряде ключевых эпизодов. В новой подрезанной версии фильма герой Ледогорова уже не сидел в сталинских лагерях, а провел несколько лет в разных госпиталях, поправляя пошатнувшееся за время немецкого плена здоровье. Чистейшая глупость, но пришлось с этим смириться. Ведь речь шла о моей дальнейшей судьбе на студии и в кино.
Хочу повторить еще раз: участие С. Бондарчука в защите фильма трудно переоценить. Благодаря его поддержке моя кинематографическая судьба сложилась более или менее удачно, а могло бы быть по-другому. Никогда не забуду его тост, который он произнес на дружеской вечеринке по поводу сдачи нашего фильма, проходившей в узкой компании. «Ты – режиссер, ты это доказал! За тебя! – сказал он. И лукаво добавил: – Но помни, есть еще понятие – гениальный режиссер!» Имея в виду, что просто быть режиссером мало что значит, надо иметь нечто большее. Свой особый художественный мир. Сказано это было в присутствии замечательных людей: оператора В. Юсова (в тот период он вместе с Бондарчуком приступил к работе над картиной «Они сражались за Родину») и моих товарищей по работе над фильмом «Небо со мной» Б. Немечека, И. Черных, Л. Басова и редактора фильма Э. Смирнова. К сожалению, из свидетелей этого разговора сегодня жив лишь один – оператор Игорь Черных.