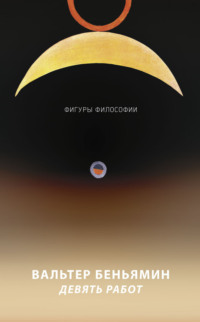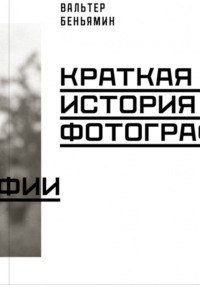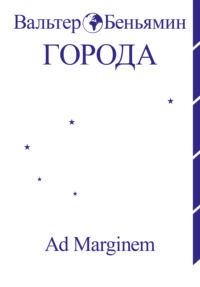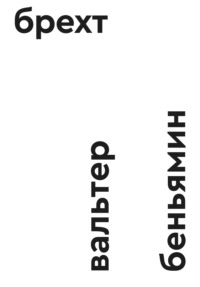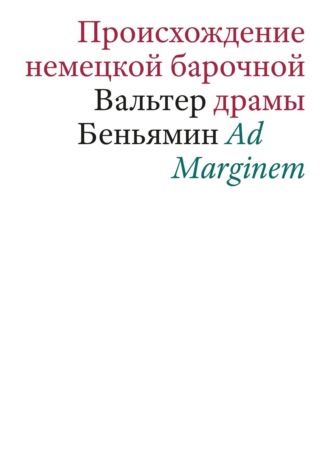
Полная версия
Происхождение немецкой барочной драмы
Трудности, присущие такому изложению, служат лишним доказательством того, что оно является своеобразной прозаической формой. В то время как в устной речи говорящий подкрепляет отдельные предложения, в том числе и те, которые сами по себе были бы несостоятельны, тоном голоса и мимикой, соединяя их в зачастую шаткое и самое общее рассуждение, словно создавая одним движением набросок изображения, на письме подобает на каждом предложении останавливаться и начинать всё заново. Созерцательное изложение должно следовать этому более, чем любое другое. Цель его не в том, чтобы захватить и увлечь. Оно успешно только тогда, когда вынуждает читателя застывать в определенных точках созерцания. Чем обширнее его предмет, тем более прерывисто его рассмотрение. Его прозаическая трезвость остается по эту сторону повелевающего слова учения единственной манерой письма, приличествующей философскому исследованию. Предметом настоящего исследования являются идеи. Если изложение стремится утвердиться в качестве подлинного метода философского трактата, то оно должно быть изложением идей. Истина, воплощенная в хороводе изложенных идей, ускользает от какой бы то ни было проекции на область познания. Познание – это обладание. Его предмет определяет себя тем, что должен – пусть даже трансцендентально – быть обладаем в сознании. Ему присущ характер обладания. Для этого отношения обладания изложение второстепенно. Оно не существует как то, что уже само себя излагает. Однако именно так обстоит дело с истиной. Метод, для которого познание есть путь заполучить предмет обладания – пусть даже порождая его в сознании, – является для истины изображением ее самой и потому как форма задан вместе с ней. Эта форма соответствует не связям, существующим в сознании, как это делает методика познания, а бытию. Снова и снова одной из глубинных интенций философии в ее истоках, в учении Платона об идеях, оказывается утверждение, что предмет познания не совпадает с истиной. Познание можно выпытывать, истину – нет. Познание направлено на единичное, на совокупное целое – лишь косвенно. Целое познания – если бы оно и существовало – было бы всего лишь опосредованной связью, установимой только на основе отдельных актов познания и в некотором роде через их нивелирование, в то время как в сущности истины единство заложено совершенно неопосредованно и как прямое определение (Bestimmung). Свойство этого определения, прямого, состоит в том, что его нельзя выпытывать. Ведь если бы интегральное единство в сущности истины можно было бы выпытывать, то вопрос должен был бы звучать, поскольку ответ на него уже дан, во всяком мыслимом ответе, которыми истина ответствует вопросам. И перед ответом на этот вопрос должно было бы происходить то же самое, и таким образом единство истины ускользало бы от всякого вопрошания. Как единство в бытии, а не единство в понятии, истина вне всякого вопрошания. В то время как понятие спонтанно порождается рассудком, созерцанию идеи даны. Идеи – это то, что дано заранее. Таким образом, вычленение истины из контекста познания определяет идею как бытие. В этом действенность учения об идеях для понятия истины. Как бытие истина и идея обретают то высшее метафизическое значение, которое ясно придает им система Платона.
Это подтверждается прежде всего «Пиром». В особенности двумя его решающими в этом отношении высказываниями. В диалоге истина – царство идей – рассматривается как сущностное содержание прекрасного. Он объявляет истину прекрасной. Проникновение в платоново понимание отношения истины и прекрасного – не только высший долг всякой попытки в области философии искусства, оно незаменимо и для определения самого понятия истины. Системологическая интерпретация, готовая усмотреть в этих положениях стародавний набросок панегирика в честь философии, неизбежно удаляется тем самым от мыслительной сферы учения об идеях. Эта сфера, пожалуй, нигде не выводит на свет образ бытия идей так ясно, как в упомянутых утверждениях. Второе из них нуждается прежде всего в поясняющей оговорке. Когда истина именуется прекрасной, это следует понимать в контексте «Пира», описывающего восходящую последовательность эротических вожделений. Эрос – так следует это понимать – не изменяет своему изначальному стремлению, направляя свое томление на истину; ведь и истина прекрасна. Прекрасна она не столько сама по себе, сколько для эроса. Да и в человеческой жизни господствует то же отношение: человек прекрасен для любящего, не сам по себе; и это потому, что его тело предстает на более высоком порядке, нежели порядок прекрасного. Так же и с истиной: прекрасна она не столько сама по себе, сколько для того, кто ее ищет. Если на всем этом оказывается налет относительности, то ни в малейшей мере красота, приличествующая истине, не становится по этой причине метафорическим эпитетом. Сущность истины как самого себя представляющего (sich darstellende) царства идей как раз служит порукой тому, что речь о красоте истинного неуязвима. В истине этот изобразительный (darstellend) момент является убежищем прекрасного вообще. А именно, прекрасное остается иллюзорным, хрупким, покуда прямо признает себя таковым. Его кажимость, соблазнительная, пока она не хочет ничего иного, кроме как казаться, навлекает на себя преследование рассудка и позволяет познать свою невинность только тогда, когда спасается бегством на алтаре истины. За беглянкой устремляется эрос, не как преследователь, но как любящий; так вот, получается, что красота ради своей кажимости постоянно спасается от обоих: от рассудочного – из страха, а от любящего – из ужаса. И только он может удостоверить, что истина – не разоблачение, уничтожающее тайну, а откровение, подобающее ей. Способна ли истина достичь соответствия красоте? Этот вопрос – самый сокровенный в «Пире». Платон отвечает на него, назначая истину поручительницей бытия прекрасного. То есть он трактует таким образом истину как содержание прекрасного. Однако оно не проявляется в обнажении, скорее оно являет себя в процессе, который можно было бы, пользуясь сравнением, обозначить как вспыхивание попадающей в сферу идей оболочки, как сгорание творения, при котором форма достигает наивысшей точки своего свечения. Это отношение между истиной и красотой, яснее всего другого показывающее, насколько разнится истина от предмета познания, с которым ее привыкли отождествлять, содержит в себе ключ простого и тем не менее непривлекательного обстоятельства, заключенного в наличности (Aktualität) даже и тех философских систем, познавательное содержание которых давно утратило связь с наукой. Великие философские построения трактуют мир как порядок идей. Как правило, понятийные контуры, в которых это происходило, давно утратили прочность. Тем не менее эти системы утверждают свою действенность в качестве наброска мироописания, как это делал Платон учением об идеях, Лейбниц – монадологией, Гегель – диалектикой. Дело в том, что всем этим опытам свойственно фиксировать свой смысл еще и тогда, более того – очень часто только тогда реализовать его в потенцированном виде, когда они соотнесены не с эмпирическим миром, а с миром идей. Ибо эти мысленные образования возникли как описание порядка идей. Чем более напряженно мыслители стремились набросать в них образ действительности, тем богаче должны они были выстраивать понятийный ряд, который подталкивал позднейшего интерпретатора изначальной трактовки мира идей как того, что, в сущности, и имелось в виду. Если задача философа – упражняться в описании мира идей так, чтобы эмпирическое само в нем растворялось, то он получает возвышенное опосредующее звено – исследователя и художника. Художник набрасывает картинку мира идей, и именно потому, что набрасывает он ее как притчу, она оказывается окончательной в любой момент времени. Исследователь располагает миром, чтобы рассеять его в сфере идей, расщепляя его изнутри на понятия. Его объединяет с философом интерес к исключению чистой эмпирии, с художником – задача изображения (Darstellung). Расхожее представление слишком близко уподобило философа исследователю, да и тому зачастую не в лучшем его виде. Нигде в задаче философа не обнаруживалось места для внимания к форме изложения. Понятие философского стиля свободно от парадоксов. У него есть свои постулаты. Вот они: искусство отрывистости в противоположность цепочке дедукции; терпеливая протяженность трактата в противоположность жесту фрагмента; повторение мотивов в противоположность плоскому универсализму; полнота насыщенной позитивности в противоположность отрицающей полемике.
Чтобы истина предстала (sich darstellt) как единство и единственность, совсем не требуется безупречной научной дедуктивной цепочки. И всё же именно эта безупречность – единственная форма, в которой логика системы соотносится с мыслью об истине. Такого рода систематическая завершенность имеет с истиной не больше общего, чем любая другая форма представления, пытающаяся заручиться одними только актами познания и их связями. Чем больше мучительная тщательность, с которой теория научного познания пытается следовать отдельным дисциплинам, тем несомненнее проступает ее методологическая несогласованность. Каждая отдельная научная область приносит с собой новые и невыводимые предпосылки, в каждой из них решенность проблем предшествующей области принимается с той же решительностью, с какой невозможность их окончательного разрешения утверждается в другой связи[19]. Как раз в том заключается одна из наиболее нефилософских черт теории науки, исходящей в своих исследованиях не из отдельных научных дисциплин, а из мнимых философских постулатов, что она считает эту несвязность акцидентальной. Однако эта разорванность научного метода столь далека от того, чтобы определять низкосортную, предварительную стадию познания, что она скорее могла бы положительно воздействовать на его теорию, если бы этому не препятствовала претензия на овладение в энциклопедическом объединении познаний истиной, остающейся цельным (sprunglos) единством. Лишь там, где система в своих основаниях (Grundriss) вдохновляется самим строем (Verfassung) мира идей, она оказывается действенной. Крупные членения, определяющие не только системы, но и философскую терминологию – наиболее общие: логика, этика и эстетика, – тоже обладают значением не как наименования специальных дисциплин, а как вехи (Denkmale) дискретной структуры мира идей. Однако феномены входят в мир идей не полностью, в своем грубом эмпирическом составе, с примесью кажимости, а лишь в своих элементах, то есть как феномены, пережившие избавление. Они отрекаются от своего ложного единства, чтобы, будучи разделенными на части, причаститься подлинного единства истины. В этом своем разделении феномены подчиняются понятиям. Именно они осуществляют разложение вещей на элементы. Разделение по понятиям свободно от подозрения в разрушительной изощренности только там, где оно направлено на то самое сохранение феноменов в идеях, что у Платона именуется τὰ φαινόμενα σώζειν[20]. В своей посреднической роли понятия сообщают феноменам участие в бытии идей. И именно благодаря этой посреднической роли они пригодны к иной, столь же исконной задаче философии, к представлению (Darstellung) идей. В ходе спасения феноменов с посреднической помощью идей осуществляется представление идей средствами эмпирии. Ибо идеи отображаются (sich darstellen) не сами по себе, а единственно в упорядочивании вещных элементов в понятии. И происходит это путем их конфигурации.
Штаб понятий, служащий представлению идеи, являет идею как конфигурацию понятий. Ведь феномены не внедрены в идею. Феномены в идеях не содержатся. Идеи скорее представляют собой их объективное виртуальное расположение, их объективную интерпретацию. Если они не содержат феномены в себе телесно и не растворяются в функциях, в законе феноменов, в Hypothesis[21], возникает вопрос, каким образом они достигают феноменов. А ответ таков: через их репрезентацию. Идея как таковая принадлежит принципиально иной области, нежели то, что она обнимает. Следовательно, в качестве критерия ее состава (Bestand) нельзя принимать проверку того, включает ли она охватываемое подобно тому, как родовое понятие – виды. Ведь задача идеи состоит не в этом. Ее значение можно продемонстрировать (darstellen) на следующем примере. Идеи относятся к вещам, так же как созвездия – к звездам. Это значит прежде всего: они не являются ни их понятиями, ни их законами. Они не служат познанию феноменов, и феномены никоим образом не могут служить критериями состава (Bestand) идей. Значение феноменов для идей скорее сводится к их понятийным элементам. В то время как феномены определяют объем и содержание охватывающих их понятий своим наличным бытием, своей общностью, своими различиями, их отношение к идеям обратное постольку, поскольку идеи как объективная интерпретация феноменов – скорее, их элементов – и определяют собственно их взаимосвязь. Идеи – это вечные созвездия, и благодаря тому, что элементы точками объединены в них, феномены оказываются одновременно подразделенными и спасенными. При этом элементы, вычленение которых из феноменов и составляет задачу понятий, наиболее ясно проступают в крайностях. Идея может быть перифрастически описана как формирование связей, в которых уникально-экстремальные проявления находятся с себе подобными. Поэтому неверно толковать самые общие указания языка как понятия, вместо того чтобы усматривать в них идеи. Превратно пытаться представить всеобщее как посредственное. Всеобщее – это идея. Эмпирическое же, напротив, постигается тем глубже, чем точнее оно опознается как крайность. Понятие исходит из крайности. Подобно тому как мать явно начинает жить в полную силу только тогда, когда круг ее детей замыкается вокруг нее чувством ее близости, так и идеи проникают в жизнь лишь тогда, когда вокруг них собираются крайности. Идеи – или, пользуясь языком Гёте, идеалы – фаустические матери. Они остаются во тьме, покуда феномены не признаются в своих с ними отношениях и толпятся вокруг них. Собирание феноменов – дело понятий, а расчленение, производимое в них силой дифференцирующего рассудка, тем более значительно, что одним махом оно совершает двойное дело: спасение феноменов и представление (Darstellung) идей.
Идеи не даны в мире феноменов. И тогда возникает вопрос: какого рода их затронутая выше данность и правда ли неизбежно перепоручение всякого отчета о структуре мира идей пресловутой интеллектуальной интуиции. Если слабость, которую любая эзотерика сообщает философии, где-либо проступает с удручающей ясностью, так это во «взирании» (Schau), предписанном адептам неоплатонического язычества в качестве философского поведения. Бытие идей вообще не может быть помыслено как предмет созерцания, в том числе и интеллектуального. Ведь и в самом парадоксальном перифрастическом описании, intellectus archetypus, оно не обращается к своеобразной данности истины, остающейся неуловимой для любого вида интенций, не говоря уже о том, чтобы оно само проявилось как интенция. Истина не вступает ни в какие отношения, и тем более интенциональные. Предмет познания, как определенный понятийной интенцией, не является истиной. Истина – это образованное идеями, лишенное интенций бытие. Соответственно, подобающий ей образ действий – не познающее мнение, а погружение в нее и исчезновение в ней. Истина – смерть интенции. Именно об этом, возможно, говорит и притча о занавешенном изображении в Саисе, откровение которого гибельно для того, кто решился вопрошать истину. Не загадочный ужас обстоятельств тому причиной, а природа истины, перед которой даже чистый огонь исканий угасает, как под потоком воды. Будучи причастным идеям, бытие истины отличается от образа бытия явлений. Итак, структура истины требует бытия, которое своей отрешенностью от интенций подобно простому бытию вещей, однако превосходит его прочностью. Истина существует не как мнение, находящее свое определение через эмпирию, а как прежде всего отчеканивающая сущность этой эмпирии сила. Отрешенное от всякой феноменальности бытие, которому единственно подобает эта сила – бытие имени. Это бытие определяет данность идей. Однако даны они не столько в некоем праязыке, сколько в праслушании, в котором слова еще не утратили, уступив познающему значению, своего именующего благородства. «В некотором смысле есть основания сомневаться, было бы учение Платона об „идеях“ возможно, если смысл слов владеющего только родным языком философа не подталкивал его к обожествлению словесного понятия, к обожествлению слова: „идеи“ Платона, если позволительно оценить их с этой односторонней точки зрения, в сущности не что иное, как обожествленные слова и словесные понятия»[22]. Идея – языковой момент, тот момент в сущности слова, в котором оно является символом. В эмпирическом слуховом восприятии, в котором слова разложены на составляющие, им присуще, наряду с более или менее скрытой символической стороной, очевидное профанное значение. Дело философа – путем представления (Darstellung) вернуть примат символическому характеру слова, в котором идея обретает согласие сама с собой, являющееся противоположностью всякого направленного вовне сообщения. Так как философия не имеет права претендовать на откровение, то это может произойти единственно через воспоминание, возвращающееся к праслушанию. Анамнесис Платона, возможно, недалеко отстоит от этого воспоминания. Однако речь при этом не идет о вызывании в воображении наглядных образов; скорее в ходе философского созерцания происходит выделение из самого нутра действительности идеи как слова, заново притязающего на свои именующие права. Однако в такой позиции в конечном итоге находится не Платон, а Адам, отец людей как отец философии. Адамическое именование столь далеко от того, чтобы быть игрой и произволом, что в именно в нем находит свое подтверждение райское состояние как таковое, которому еще не было нужды бороться со значением слова, предназначенным для сообщения. Подобно тому как идеи являются в именовании без интенции, они должны испытать обновление в философском умозрении. В этом обновлении восстанавливается изначальное внимание слову. И тем самым философия в ходе своей истории, столь часто подвергавшейся насмешкам, не без оснований оказывается борьбой за представление (Darstellung) всего нескольких, всё время одних и тех же слов – идей. Введение новых терминологических систем, если оно не ограничивается строго понятийными рамками, а нацеливается на последние предметы рассмотрения, представляется поэтому в области философии сомнительным. Подобные терминологические системы – неудачные попытки именования, в котором мнение принимает большее участие, чем язык, – порывают с объективностью, заданной историей основных словесных порождений философского анализа. Эти порождения обитают в полной изоляции, сами по себе, на что простые слова никогда не способны. И тем самым идеи присягают закону, который гласит: все сущности пребывают в полной самостоятельности и неприкасаемости не только для феноменов, но даже и друг для друга. Подобно гармонии сфер, основанной на круговращении не касающихся друг друга светил, mundus intelligibilis[23] в своем постоянном составе также опирается на непреодолимую дистанцию между чистыми сущностями. Каждая идея – это солнце, и относится она к себе подобным точно так же, как солнца относятся друг к другу. Звучащее отношение подобных сущностей и есть истина. Ее поименованное множество исчислимо. Ибо прерывистость соотносится с «сущностями… ведущими жизнь, toto coelo[24] отличающуюся от предметов и их свойств; их существование нельзя получить путем диалектического принуждения, когда мы выхватываем любой, встречающийся нам в предмете… комплекс и добавляем: καθ' αὑτὸ[25], ведь число их сочтено и каждую из них необходимо тщательно искать в подобающем ей месте ее мира, пока не наткнешься на нее, словно на rocher de bronce[26], или пока надежда на ее существование не окажется тщетной»[27]. Нередко свидетельство об этой ее прерывистой конечности срывало энергичные попытки обновления учения об идеях, последний раз еще у ранних романтиков. В их умозрении истина вместо своего языкового характера принимала характер рефлектирующего сознания.
Драма в рамках трактата по философии искусства – это идея. Наиболее явно такой трактат отличается от сочинения по истории литературы тем, что он предполагает единство там, где истории литературы надлежит обнаружить многообразие. Различия и крайности, которые литературоведческий анализ заставляет переходить друг в друга и демонстрирует их относительность через рассмотрение в становлении, в ходе развития идей обретают ранг комплементарных энергий, а история предстает лишь радужным ореолом кристалла одновременности. Для философии искусства крайности необходимы, движения истории – виртуальны. И наоборот, крайность формы или жанра – идея, которой как таковой в историю литературы путь заказан. Драма как понятие беспрепятственно включается в ряд понятий эстетической классификации. Иначе относится к области классификации идея. Она не задает никакого класса и не содержит в себе той всеобщности, на которой в системе классификации покоится соответствующая ступень понятий, а именно, всеобщности усредненности. Поэтому недолго оставалось секретом, насколько сомнительно вследствие этого положение индукции в изысканиях по теории искусства. Исследователи последнего времени впадают в критическую беспомощность. В связи со своей работой «О феномене трагического» Шелер заявляет: «Как… поступить? Следует ли нам собрать разного рода примеры трагического, т. е. разного рода происшествия и события, производящие на людей впечатление трагических, и затем путем индукции выявить, что у них „общего“? Это был бы своего рода индуктивный метод, который можно было бы подкрепить экспериментально. И всё же это еще меньше продвинуло бы нас вперед, чем наблюдения над собственным Я, когда мы испытываем воздействие трагического. Ибо по какому праву мы должны верить высказываниям людей, принимая за трагическое то, что они таковым называют?»[28] Попытка индуктивного – в соответствии с их «объемом» – определения идей из повседневной речи, чтобы затем перейти к постижению сущности зафиксированного объема, обречена на провал. Ибо языковой узус хотя и неоценим для философа, когда рассматривается как намек на идеи, однако таит в себе ловушку, когда в своей интерпретации небрежной речью или мыслью принимается за прямое основание понятия. Это обстоятельство позволяет утверждать, что философ имеет право лишь с крайней осторожностью приближаться к обычаю повседневного мышления обращать слова, чтобы заручиться их поддержкой, в видовые понятия. Именно философия искусства нередко попадала в эту ловушку. Ведь если – всего один яркий пример из множества – «Эстетика трагического» Фолькельта включает в свои исследования пьесы Хольца и Хальбе ровно так же, как и произведения Эсхила и Еврипида, даже не задаваясь вопросом, является ли трагическое вообще формой, воплотимой в наше время, или она исторически обусловлена, то в отношении трагического в столь различных материях оказывается заключенным не напряжение, а мертвая расчлененность. Перед возникающим таким путем нагромождением фактов, среди которых первоначальные, более замкнутые, вскоре оказываются перекрытыми навалом современных, более занимательных, у исследования, которое ради выявления «общего» нагружает себя всей этой махиной, не остается в руках ничего, кроме нескольких психологических данных, которые в субъективности если не исследователя, то современного ему нормального обывателя компенсируют разнообразие одинаковостью убогой реакции. Понятия психологии, возможно, позволяют передать многообразие впечатлений, для которого безразличен тот факт, что оно вызвано произведениями искусства, однако не сущность одной из областей искусства. Для этого требуется проработанное изложение его понятия формы, содержание которого не столько покоится внутри, сколько проявляется в действии и пульсирует, как наполняющая тело кровь.
Привязанность к многообразию, с одной стороны, равнодушие к строгому мышлению – с другой постоянно были причинами, предопределявшими некритическую индукцию. Всегда при этом дело заключается в боязни конститутивных идей – universaliis in re[29], – как их однажды с особой четкостью сформулировал Бурдах. «Я пообещал вести речь об истоках гуманизма, словно это было живое существо, которое когда-то и где-то явилось как целое на свет и как целое же росло… Мы ведем себя подобно так называемым реалистам среди средневековых схоластов, приписывавшим реальность общим понятиям, „универсалиям“. Тем же самым образом и мы – идя путем гипостазирования, словно первобытные мифологии, – предполагаем наличие существа единой субстанции и полной реальности, и называем его, как будто это живой индивидуум, гуманизмом. Однако нам следовало бы, как и во множестве сходных случаев… ясно понимать, что мы лишь изобретаем абстрактное вспомогательное понятие, чтобы сделать обозримыми и постижимыми бесконечные ряды многообразных духовных явлений и поистине различных лиц. В соответствии с одним из принципов человеческого восприятия и познания мы можем достичь этого, лишь если, повинуясь врожденной систематической потребности, яснее увидим определенные свойства, представляющиеся нам в этих рядах вариаций сходными или совпадающими, и подчеркнем их сильнее, чем различия… Эти этикетки – гуманизм или Ренессанс – произвольны, даже неверны, потому что придают этой жизни, у которой много начал, много форм, много духовных проявлений, ложную видимость реальной сущности. И столь же произвольной, столь же обманчивой маской является „человек Ренессанса“, столь популярный благодаря Буркхардту и Ницше»[30]. Авторское примечание к этому месту гласит: «Дурным подобием „человека Ренессанса“ является „готический человек“, который вносит в рассуждения наших дней сумятицу и ведет свое призрачное существование даже в размышлениях значительных, уважаемых историков (Э. Трёльч!). К нему присоединяется еще и „барочный человек“, в качестве такового нам предлагают, например, Шекспира»[31]. Эта позиция явно оправдана в том, что касается критики гипостазирования общих понятий, – универсалии относятся к ним не во всех случаях. Однако она полностью недееспособна перед лицом вопросов, задаваемых теорией науки, которая в духе платонизма направлена на представление (Darstellung) сущностей, и происходит это потому, что она не понимает необходимости этой теории. Только она единственно и способна охранить языковую форму научного изложения, ведущегося за пределами математики, от скепсиса, безграничного и затягивающего в конце концов в свою пучину любую индуктивную методику, какой бы изощренной она ни была, скепсиса, которому рассуждения Бурдаха противостоять не способны. Ведь они представляют собой приватную reservatio mentalis[32], а не методологический предохранитель. Правда, что касается в особенности исторических типов и эпох, то никогда нельзя предполагать, будто идеи, вроде Ренессанса или барокко, могут позволить понятийно обработать материал, а мнение, будто современное понимание различных исторических периодов может быть подтверждено в неких полемических обсуждениях, на которых эпохи, словно в великие переломные моменты, сталкиваются с поднятым забралом, – это мнение не отвечает содержанию источников, которое обыкновенно определяется актуальными интересами, а не историографическими идеями. Однако то, на что эти наименования не способны в качестве понятий, они совершают в качестве идей, в которых не сходится однотипное, зато находят синтез крайности. Это вовсе не противоречит тому, что и понятийный анализ не во всех случаях наталкивается на совершенно несвязные явления и что в нем порой проступает контур синтеза, хотя он и не может пройти легитимацию. Так, именно по поводу литературного барокко, которое и дало начало немецкой драме, Штрих справедливо заметил, «что принципы творчества на протяжении всего столетия оставались одними и теми же»[33].