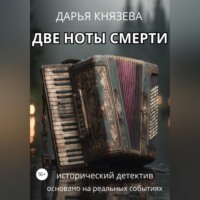Полная версия
Две ноты смерти

Дарья Князева
Две ноты смерти
Предисловие
Эта книга основана на реальных событиях, произошедших летом 1945 года в Ульяновской области. Мой дедушка, Илларион Терентьевич Фионов, действительно был ложно обвинён в убийстве молодой учительницы.
Однако это художественное произведение. Все диалоги, мысли персонажей, многие детали и события – плод авторского воображения. Имена большинства персонажей изменены. Хронология событий частично изменена для нужд повествования.
Все совпадения с реальными лицами (за исключением членов семьи Фионовых), названиями мест и событиями являются случайными.
Эта книга – детектив о семье, которая столкнулась с несправедливостью и выстояла. О детях, которые не сдались, когда их отца обвинили в преступлении, которого он не совершал. О настоящих ценностях семьи, о вере, любви, верности, и надежде.
Я написала эту книгу для своих детей, чтобы они знали, где их корни. Для моего крёстного, который сохранил память о нашей семье. Для всех, кто помнит цену мира, который был завоёван страшной ценой.
Это история о том, что правда побеждает. О том, что семья – это выбор держаться друг за друга.
Читайте. Помните. Передавайте дальше.
Глава 1. Последний урок
Роза Свагр проснулась от того, что солнце резануло по глазам через щель в ставне. Она не открыла глаза сразу, лежала, слушала, как тётка Агата шаркает по кухне. Агата была строгая, но справедливая. Сдавала комнату приезжим. Год назад у неё жила семья Фионовых: Илларион с женой Степанидой и пятью детьми. Тесно было, шумно. Дети бегали, Агата ругалась, но не со зла.
Потом Фионовы переехали в свой дом на краю деревни. Агата даже немного загрустила: привыкла к детскому шуму.
Роза помнила Иллариона, молчаливый, серьёзный мужик. С войны комиссовали несколько раз с контузиями, но всегда как поправлялся снова уходил на фронт. Здоровался всегда. Один раз помог дрова колоть, когда Агата болела. Хороший был жилец.
Девушка немного послушала, как скрипит колодезный ворот во дворе, как петух на соседском заборе рвёт в клочья эту ночь и обозначает начало нового дня. Рига была тише. Там просыпались под трамвайный звон и крики чаек. Здесь – под звуки леса, деревни, где каждый сверчок знает свой шесток.
Она встала. Умылась из кувшина: вода ледяная, пахла железом. Заплела косу, туго, чтобы не мешала у доски. Достала из сундучка синюю ленту, подарок матери перед отъездом. «Чтобы помнила, что ты учительница, а не деревенская баба».
Роза усмехнулась, повязывая ленту. Мать до сих пор не простила ей побега из Риги, этого «безумного решения», как она выразилась в последнем письме. «Приезжай домой. Здесь театр, приличное общество, университетские знакомства. Что ты там делаешь среди этих… крестьян?»
Этим крестьянам, мама, я нужна. А в твоей Риге я была красивой куклой в витрине.
Роза вспомнила последний день перед отъездом. Мать устроила приём, пригласила «нужных людей»: чиновников, профессоров, их сыновей. Розу представляли как товар: «Наша дочь окончила гимназию с золотой медалью». Один из этих «перспективных женихов», сын городского прокурора, положил руку ей на талию так, будто она уже принадлежит ему. Роза тогда вылила ему на ботинки бокал вина и ушла из дома.
На следующий день подала документы на место учительницы в деревенской школе так далеко от дома, что даже и представить страшно. Мать не разговаривала с ней неделю.
Она подколола ленту булавкой, маленькой, железной, чтобы держалась. Поправила прическу перед зеркальным осколком. Синяя, как небо перед грозой. Как её жизнь сейчас – на грани между прошлым и будущим.
Школа встретила её запахом мела и сырого дерева. Роза открыла окно, ворвался ветер с запахом мяты. Разложила на столе тетради, букварь, мел. Школа была бедной. Парты самодельные, доски покосившиеся. Мела не хватало, Роза приносила свой, покупала на ярмарке. Учебников тоже не было. Один букварь на четверых. Дети писали на газетах, между строк.
Но Роза не жаловалась. Она знала: в 1945-м, сразу после войны, и это роскошь. Дети живы. Школа открыта. Учить можно.
Дети начали стекаться в класс.
Первым зашёл Лёша Фионов. Десяти лет, худой, с острыми плечами. Он молча сел за парту, достал тетрадь. Роза знала: там не только задания, но и его собственные наблюдения. Он записывал всё подряд – как растёт трава, какие облака сегодня, сколько шагов от дома до школы. Это было необычно для деревенского мальчика. «У вас учёный растёт», – сказала она однажды его матери Степаниде. Та только кивнула: «Пусть растёт. Главное, чтобы человек хороший получился».
Следом забежали двойня Марфа и Гришка. Потом Ванька, сын кузнеца, с вечно грязными руками. Ещё трое, потом четверо. Двенадцать учеников, с первого по четвёртый класс.
В дверь заглянула маленькая Лида Фионова, сестра Лёши. Семь лет, две косички, кукла в руках.
– Роза Ильинична, можно я посижу?
– Заходи, Лида. Только тихо.
Девочка кивнула серьёзно и села на лавку у стены, прижимая куклу. Она ещё не ходила в школу, но прибегала каждый день. Роза читала ей сказки, учила буквам. Лида запоминала всё с первого раза.
Урок начался. Лёша решал задачу, младшие читали по слогам. Ванька вертелся, Роза одёрнула взглядом. Он притих.
После урока Лида подбежала:
– Роза Ильинична, а вы завтра придёте?
– Конечно приду. Куда я денусь?
Девочка кивнула, приняла обещание как клятву, убежала.
Роза смотрела ей вслед и думала: вот зачем я здесь. Не ради материнских балов. Не ради «перспективных женихов». Ради этого детского доверия, которое нельзя купить деньгами.
Вечером, когда дети разошлись, Роза села за стол и достала письмо матери. Оно пришло неделю назад, но она всё не решалась открыть. Знала, что там.
«Роза, ты упрямая, как твой отец. Но упрямство без ума – это глупость. Что ты там делаешь? Учишь крестьянских детей азбуке? Ты могла бы преподавать в гимназии, выйти замуж за достойного человека, жить в городе. А ты сбежала в деревню, как беглая крепостная.
Приезжай домой пока не поздно».
Она закрыла глаза. В голове всплыли лица детей: Лёша с его серьёзными глазами, Лида с куклой, Ванька, который никак не мог выучить таблицу умножения, но запоминал каждую сказку. Они ждали её завтра. Они верили, что она придёт.
В Риге никто так не ждал. Там она была украшением на приёмах матери. Красивое платье, правильные слова, улыбка по команде. Пустота.
А здесь она нужна! По-настоящему. Не потому что красивая или образованная. Потому что учит детей читать, думать, мечтать.
Мама никогда этого не поймёт. Для неё счастье – это замуж за прокурорского сына, дом в центре Риги, приличное общество. Для Розы счастье – это когда Лида приносит рисунок и шепчет: «Это вам».
Она открыла глаза, сложила письмо и положила обратно в конверт. Нет, она не вернётся. Даже если мать будет писать каждую неделю.
День подходил к концу. Роза собрала книги, закрыла школу. Она пошла своей обычной дорогой, шла, и думала о Риге, о матери, о том, что нужна всем этим детям. Было тихо. Слишком тихо. Обычно в это время птицы пели, кто-то кричал на огороде, собаки лаяли. Сейчас – ничего. Только её шаги по тропе.
Роза вдруг почувствовала холодок между лопаток. Остановилась. Оглянулась. Никого. Лес молчал.
«Глупости, – подумала она. – Просто устала. Завтра рано вставать».
Но холодок не проходил.
У родника она остановилась попить. Присела, зачерпнула ладонью холодной воды.
Услышала шаги.
Обернулась.
Из-за кустов вышли трое.
Первым вышел чернявый. Высокий, с шрамом на брови, через грудь ремень, на плече болталась гармонь. За ним – седой, широкоплечий, с тяжёлым взглядом. Третий – молодой, худой, держался за бок, на рукаве тёмное пятно.
Сердце ёкнуло.
– Добрый вечер, – сказала она, стараясь улыбнуться.
Никто не ответил.
Седой шагнул вперёд, остальные остались сзади.
– Ты здешняя? – спросил он.
– Учительница.
– Учительница. – Он хмыкнул. – Значит, грамотная.
Она встала, отступила на полшага.
– Мне пора домой.
– Подожди. – Седой не двигался, но голос стал жёстче. – Ты видела нас?
– Нет. То есть… сейчас вижу.
– А раньше? Вчера? Позавчера?
– Не видела.
Он изучал её лицо, как изучают карту перед боем.
– Не ври.
– Я не вру! – Голос дрогнул. – Я правда не видела.
Чернявый с гармонью шагнул в сторону, будто отгораживая путь к деревне. Роза увидела его глаза – усталые, какие-то пустые. Он смотрел не на неё, а сквозь неё.
Седой повернулся к нему:
– Что скажешь?
Чернявый молчал. Пальцы его сжались на ремне гармони.
– Говори, – повторил седой. – Это она? С ней ты разговоры разговаривал?
– Она… – чернявый наконец заговорил. Голос хриплый.
– Я не скажу никому! – Роза отступила ещё. – Клянусь, не скажу! Я никого не видела!
Седой посмотрел на молодого:
– А ты что думаешь?
Молодой дрожал. Рана на боку, видимо, болела.
– Не знаю… может, отпустить?
– Отпустить, – повторил седой. Усмехнулся. – И завтра милиция придёт. Умный ты у меня.
Роза попятилась. Споткнулась о корень.
– Не трогайте меня! Я никому не скажу!
Седой шагнул к ней. Протянул руку.
– Поздно уже.
Роза дёрнулась, попыталась вырваться. Седой схватил её за плечо. Рванул. Лента сорвалась с косы. Булавка звякнула о камень.
– Пустите!
Чернявый стоял в стороне. Гармонь на ремне качнулась. Он не двигался.
Седой развернул Розу лицом к себе.
– Прости, – сказал он. – Но по-другому нельзя.
Роза закричала.
Удар был коротким. Резким.
Она упала.
Мир качнулся. Вода звенела. Небо потемнело.
Последнее, что она увидела – синюю ленту на ветке куста. Она трепалась на ветру, как флаг, который никто не увидит.
Две недели назад.
Роза шла с ярмарки поздно. Купила мел, тетради. Солнце село, дорога пустела.
Из-за поворота вышли двое. Пьяные, с красными лицами. Один схватил её за руку:
– Эй, красавица, чего одна?
Роза дёрнулась:
– Отпустите!
– Не отпустим. Проводим.
Второй захохотал.
Роза попятилась. Сердце колотилось.
– Эй! – голос из темноты.
Из леса вышел человек. Чернявый, высокий, с гармонью на плече. Лицо спокойное, но в руке – обрез.
– Отпустите девушку.
Пьяные переглянулись. Один сплюнул:
– Чего тебе надо?
– Сказал – отпустите.
Голос ровный. Но обрез поднялся выше.
Пьяные буркнули что-то, отпустили Розу, ушли.
Роза выдохнула:
– Спасибо.
Чернявый опустил обрез:
– Не за что. Вы здешняя?
– Учительница.
– Учительница. – Он кивнул. – Значит, умная.
Ей стало неловко от этого странного комплимента. Она кивнула, пошла дальше.
Он окликнул:
– Подождите. Вам далеко идти?
– До Красной Балтии.
– Я вас провожу. Здесь ночью опасно.
Она хотела отказаться. Но вспомнила пьяных и кивнула.
Они шли молча. Он не лез с разговорами. Только спросил:
– Давно здесь?
– Полгода.
– Откуда?
– Из Риги.
Он присвистнул:
– Город. А зачем в глушь-то такую?
– Хотела учить детей.
Он посмотрел на неё внимательно. Слишком долго.
– Редко встретишь таких, – сказал он наконец. В голосе было что-то похожее на уважение. Или зависть.
Она не ответила.
У околицы он остановился:
– Дальше сами дойдёте?
– Да. Спасибо.
Он кивнул, развернулся, ушёл в темноту.
Роза смотрела ему вслед и думала: странный. Опасный. Но… не злой?
Они встретились ещё раз. Через неделю. Он снова был у дороги, будто ждал.
– Добрый вечер, – сказал он.
– Добрый вечер.
– Как школа?
– Хорошо.
Он шёл рядом. Молчал. Гармонь на ремне тихо позвякивала.
– Вы играете? – спросила она.
– Раньше играл. – Он коснулся гармони. – Теперь забыл.
– Почему?
– Война. – Он сказал это так просто, будто война объясняет всё. И, наверное, объясняла.
Они дошли до околицы. Он снова остановился.
– До свидания.
– До свидания.
Он ушёл.
Роза смотрела ему вслед. Что-то в нём было надломленное. Как у человека, который видел слишком много и не знает, как с этим жить дальше.
Третья встреча. Он ждал у родника. Гармонь лежала рядом.
Роза остановилась:
– Здравствуйте.
– Здравствуйте.
– Вы всё ещё здесь?
– Всё ещё.
Он встал. Посмотрел на неё долго. Потом сказал:
– Уезжайте отсюда.
Она не поняла:
– Что?
– Уезжайте. В Ригу. Или куда хотите. Здесь скоро станет опасно.
– Почему?
Он не ответил. Развернулся, пошёл прочь.
– Почему опасно? – крикнула она вслед.
Он обернулся:
– Потому что я здесь.
И ушёл.
Роза стояла у родника и думала: от чего он бежит? И почему я должна бежать?
Она не уехала. Упрямая была.
Настоящее. У родника.
Роза лежала на земле. Вода звенела. Небо темнело.
Седой стоял над ней. На лице была пустота.
Чернявый стоял в стороне. Гармонь на ремне. Руки опущены. Он смотрел на Розу, и в глазах его было что-то похожее на боль.
Молодой тихо сказал:
– Мы… это…
Седой не слушал. Наклонился, поднял синюю ленту с земли. Посмотрел на неё. Бросил.
– Уходим, – сказал он.
Развернулся. Ушёл в лес. Молодой заковылял за ним.
Чернявый задержался. Посмотрел на Розу последний раз. Губы шевельнулись, возможно, он что-то сказал. Но она уже не слышала.
Он развернулся и ушёл.
Роза осталась одна.
Синяя лента трепалась на ветке куста.
Вода звенела.
Небо потемнело.
Так закончился мрачный день 15 октября 1945 года близ села Красная Балтия.

Глава 2. Родник
На следующий вечер, 16 октября, Илларион гнал Зорьку домой по вечерней дороге. Земля ещё была сырой после дождя, колёса телег у околицы оставили глубокие вмятины. Воздух был тяжёлый, как перед грозой, хотя тучи уже ушли. Солнце скатывалось за лес, и каждая тень казалась длиннее обычного.
Саша и Лёша увязались следом. Мальчишки не слушались, хоть и велел идти прямо в дом.
– Мы с тобой, папка, – сказал Саша и шагал позади упрямо.
Лёша шёл тише, руки в карманах, но глаза блестели, он хотел быть рядом с братом и отцом.
– Ждите у кустов, – велел Илларион, когда подошли к оврагу. – Дальше я сам.
Мальчики переглянулись. Саша нахмурился, но молча подтолкнул брата в сторону зарослей. Лёша послушно присел, хотя губы дрожали от тревоги.
Родник журчал. Вода билась о камни тихо, мерно, как всегда.
Но что-то было не так.
Илларион оглянулся. Лес был слишком тих. Птицы не пели. Даже сверчки молчали.
Он нагнулся к воде. Зачерпнул ладонью. Холодная, чистая. Но пахла… странно. Не железом, как обычно. Чем-то другим.
Илларион не знал, чем. Но чувствовал: что-то здесь случилось. Что-то плохое.
Зорька мычала беспокойно. Корова чувствовала то же самое, но шумно хлюпала ртом. Илларион нагнулся, зачерпнул воды ладонью, полоснул по лицу. Лёд, что пробирал до костей.
Трава сбоку качнулась слишком резко, чтобы это был ветер.
Илларион поднял голову. Из зарослей вышли трое.
Первым – чернявый. Высокий, с шрамом на брови, через грудь ремень, на плече болталась гармонь. Вторым – седой, широкоплечий, уверенный, как тот, кто привык первым идти по узкой тропе. Третий держался сзади – молодой, худой, бледный, прижимал руку к боку. На рукаве темнело пятно крови.
Они встали полукругом, закрыв тропу к деревне.
– Из деревни? – спросил седой.
Илларион кивнул. Повод коровы пропустил под ладонью, заслонил себя её боком.
– Один?
– С коровой.
Молодой переступил ближе. Глаза бегали, губы дрожали. Правая рука висела странно, как у человека, который не хочет, чтобы заметили, что у него что-то болит.
– Что на дороге? – седой смотрел не на Иллариона, а на тропу к деревне.
– Пусто.
Чернявый не сводил взгляда с плеча Иллариона, где на плаще была подпалённая прорезь, свежая, но не сегодняшняя. Гармонь не снимал, только ослабил ремень.
– Вчера кто ходил к воде? – спросил он.
– Люди ходят, – сказал Илларион. – Родник тута один.
Пауза. Только вода била в камень, да Зорька мычала.
Седой зачерпнул воды, попробовал, сплюнул. Молодой поморщился, видно боль отзывалась в руке. Чернявый заметил это и чуть качнул головой: «держись».
– Дом где? – спросил седой.
– Там.
– Жена дома?
– Дома.
Илларион поднялся медленно, взял ведро. Корова закрывала его, когда он разворачивался не торопясь, чтобы не спровоцировать.
– Иди, – сказал чернявый.
Молодой дёрнулся. Сунул руку под полу. Металл блеснул.
– Стой! – рявкнул седой.
Поздно.
Выстрел ударил коротко, как треск ветки.
Пуля рванула плащ, обожгла плечо. Илларион отпрянул, рванул повод – Зорька закрыла его телом. Ведро грохнуло о камень, вода расплескалась.
Саша и Лёша за кустами прижались к земле. Лёша зажал рот ладонью, чтобы не вскрикнуть. Саша сжал кулаки, хотел вскочить, но взгляд отца остановил его одним движением глаз: «стоять».
Седой схватил молодого за локоть:
– Держи руку! Дурак!
Чернявый молчал. Только смотрел, как Илларион медленно уходит боком, не показывая спины – так отступают, когда знают, что второй выстрел может быть точнее.
– Держи руку, – повторил седой молодому тише, но жёстче.
Чернявый кивнул: «уходи».
Илларион пошёл. Шаги не ускорял, хотя плечо горело. Два шага – валун, ещё два – куст. Зорька шла рядом, закрывая его бок.
Сердце билось так, будто всё ещё на фронте. Илларион дышал ровно, считал шаги, чтобы не сорваться в бег. Бежать нельзя. Бежишь – значит, боишься. Боишься – стреляют в спину.
Он вспомнил сорок второй. Под Ржевом. Тогда он так же отходил под огнём. Медленно. Прикрываясь брёвнами моста, который только что строили. Тогда трое не дошли. Он дошёл.
Сейчас дойдёт тоже. Дети дома. Степанида ждёт. Нельзя умереть у чёртова родника от руки своих же, хоть и бандитов.
Он не оглядывался. Только считал шаги. Двадцать три. Двадцать четыре. Двадцать пять. Поворот. Кусты. Всё. Живой.
За поворотом кусты зашевелились, мальчишки бросились к нему.
– Быстро домой, – шепнул он. – Не оборачиваться.
Они бежали по улице. Зорька задыхалась, мычала. Саша бежал рядом, стиснув зубы. Лёша спотыкался, но держался. Улица пустая, окна тёмные. Вечер превращался в ночь.
Во дворе Степанида стояла на крыльце. Сразу заметила кровь на плече мужа.
– Что это?!
– Трое у родника, – выдохнул он. – С оружием. Стреляли.
Она втолкнула детей в избу. Засов упал на место.
Лида в углу прижала куклу, глаза огромные. Женя всхлипнул:
– Папка… они сюда придут?
– Не знаю, – сказал Илларион честно. – Если услышишь шаги, кричи. Не геройствуй.
Саша сел у двери. Хотел сказать что-то, но слова комом застряли в горле.
Лёша прижался к печи. Губы дрожали, он кусал их, чтобы не заплакать.
Степанида тронула рану мужа:
– Жив?
– По касательной. Цел.
Она смотрела ему в глаза. Там было всё: страх за него, злость на тех, кто посмел стрелять, решимость защищать детей, дом.
– Что за люди? – спросила она.
– Седой у них главный, видимо. Молодой ранен, рука в крови. Чернявый не понятно в каком звании, слушает, не суетится. Стреляли, но не пошли следом. Держатся места. Ждут кого-то.
Женя всхлипывал, вытирая слёзы рукавом. Саша молчал, стиснув зубы. Лёша кусал губы. Толя дрожал, прячась за матерью. Лида вдруг шепнула:
– А Роза Ильинична?.. Не было там её? А то в школу она не приходила сегодня…
Илларион посмотрел на неё. В глазах девочки было то, что он боялся увидеть. Это было детское понимание беды.
– Завтра скажут, – твёрдо сказал он. – Утро вечера мудренее.
Он снял плащ, разглядел прорезь. Боль терпимая, пуля прошла по касательной, только кожу обожгла. Главное, все живы.
Степанида принесла чистую тряпку, намочила в воде из кувшина.
– Сиди, – велела она. – Промою.
Он сел. Вода была холодной, жгла рану. Он не поморщился: дети смотрели.
Степанида работала быстро, молча. Пальцы её не дрожали. Когда закончила, положила ладонь ему на плечо на секунду, не больше. Но в этом касании было всё: «держись», «я рядом», «мы выстоим».
Засов лёг на место крепко.
Илларион поднял глаза на детей. Саша у двери, он старший, спина прямая. Лёша у печи, губы сжаты. Женя вытер слёзы, дрожит, но стоит. Лида прижимает куклу, глаза большие, но не плачет. Толя держится за мать.
– Живы, – сказал он. – Значит, справимся.
Ночь прижалась к стенам дома, шумела за окнами. Где-то далеко собака залаяла и смолкла. В избе пахло печным дымом и мокрой тряпкой.
Но внутри всё было ясно.
Чужие у родника. Вооружённые.

Глава 3. Две ноты
Утром, до рассвета, бабы пошли по воду. Одна из них, Пелагея, первой подошла к роднику.
И закричала.
Роза лежала у воды. Лицом вниз. Руки раскинуты. Синяя лента на ветке куста.
К полудню вся деревня знала: убили учительницу.
И вспомнили: вчера вечером у родника видели Фионова. С коровой Зорькой.
Толпа начала собираться у сельсовета. Весь день там был гул, и до избы Фионовых дошли новости: вся деревня считает отца семейства убийцей Розы. К вечеру в их доме стало тревожно как никогда.
Дверь закрыли. В избе стало тесно и тихо.
– Давайте по местам, ребята – сказал Илларион. – Без беготни.
Саша встал у двери, положил ладонь на косяк. Лёша сел к столу, положил тетрадь перед собой. Женя занял лавку у окна, ближе к щели. Лида прижалась к Степаниде, которая кормила грудью малышку Тосю, Толя спрятался у неё за локтем. Когда младшие уснули, она встала поговорить с мужем о случившемся.
Толя проснулся от шума. В избе было темно, но он слышал голоса: мама, папа, Саша. Толя не понимал слов, но понимал тон. Страшный.
Он хотел заплакать. Но Лида, лежавшая рядом, крепко держала его за руку.
– Тихо, – шепнула она. – Папа здесь. Всё хорошо.
Толя кивнул. Папа здесь. Значит, можно не бояться.
Он зажмурился и прижался к сестре. Сердце стучало громко. Но он не заплакал. Большие не плачут. Саша не плачет. Лёша не плачет. Женя не плачет.
И Толя не заплачет.
Утром, когда все проснулись, Степанида погладила его по голове:
– Молодец, Толик. Не плакал.
Толя улыбнулся. Он справился.
Ночью:
– Слушаем, – тихо сказал Илларион. – Кто что заметит – говорите мне, не геройствуйте. Саша, будь у двери, Женя, слушай, Лёша, записывай, ежели чего. Младшие – с матерью, отдыхайте, поспите.
– А если они сейчас? – спросил Женя.
– Тогда я выйду, – ответил Илларион. – Но, думаю, они на воде ждут.
Он прошёл взглядом по избе: окно прикрыто, щель заколочена клинышком; у двери стоит корытце с водой; на столе лежит чистый лист. Никаких больших речей. Тишина сейчас спасает.
Саша шевельнул плечами, будто примерил невидимый ремень. Лёша повернул карандаш, чтобы не катился. Женя приложил ухо к щели: холодно, но терпит.
Снаружи собака коротко гавкнула и умолкла.
– Пап, – сказал Саша, – может, выйду кругом, гляну?
– Нет, – обрубил Илларион. – За дверью смотри, без самодеятельности.
– Но если…
– Никаких «если». Твоя работа – следить за дверью!
Саша скривился, но промолчал. Остался у двери.
Минуты ползли. Женя слушал у окна, закрыв глаза: так легче отсеивать лишнее. Сначала – пусто. Потом где-то далеко щёлкнул ворот колодца. Через двор прошли, свои, хода неторопливого. Снова пусто.
Лёша поднял карандаш.
– Писать сейчас? – спросил.
– Только основное, – ответил Илларион. – Что пригодится может потом.
Лёша вывел крупно: «Ночь. Мы дома. На улице тихо».
В сенях послышался шорох. Два осторожных стука. Саша рванулся, но Илларион жестом остановил: «я». Он отодвинул дверцу на ширину ладони.
– Кто?
– Я, – прошептал пастух Колька. – Свой.
Илларион приоткрыл больше. На пороге стоял долговязый парень, в глазах его отчетливо читался страх.
– У оврага огонёк, – сказал он тихо. – Не прямо костёр, а так, чтоб не видно. Сидят. Трое, кажется. Следов к деревне свежих не видел.
– Понял. Домой. Никому не трепли. Дверь на крюк.
– Запру, – кивнул Колька и растворился в темноте.