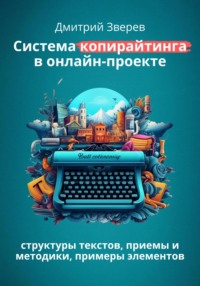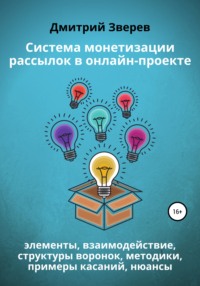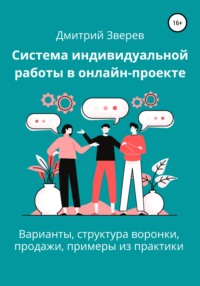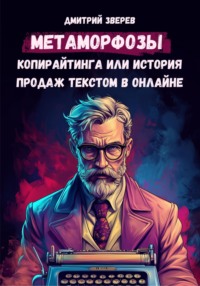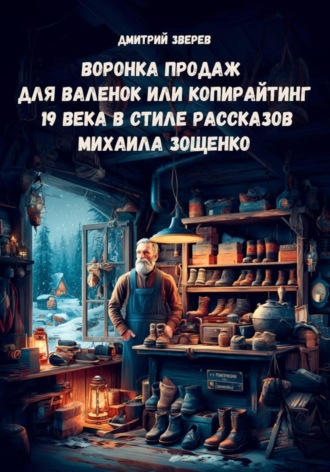
Полная версия
Воронка продаж для валенок или копирайтинг 19 века в стиле рассказов Михаила Зощенко
"Наука, – отвечаю, – батенька. Человеческая природа везде одинакова. Изучи ее правильно – и будешь знать, чего люди хотят".
Решили мы эти знания применить. Разместил Архип Степанович в газете объявление: "Самовары для господ, ценящих качество и традиции. Василий Петрович! Марья Ивановна! Ваш дом достоин лучшего!"
И что же? На следующий день приходит к Архипу Степановичу настоящий Василий Петрович и говорит: "Это вы про меня в газете писали? Очень приятно, что торговцы теперь к покупателям лично обращаются!"
Потом Марья Ивановна заглянула: "Ах, как мило! Меня по имени в рекламе упомянули!"
А через неделю является какой-то незнакомый господин и представляется: "Василий Петрович Новиков. Прочитал ваше объявление – очень заинтересовался. Самовар мне нужен".
Архип Степанович совсем растерялся: "Петр Семенович, что за чудеса? Откуда столько Василиев Петровичей взялось?"
"Не чудеса, – объясняю, – а закономерность. Правильно аватар составишь – и люди сами к тебе тянуться будут. Чувствуют, что их понимают".
Но тут случилась неприятность. Пришел к Архипу Степановичу покупатель – Сидор Фомич, отставной солдат. Самовар простенький хотел купить. А Архип Степанович, увлекшись наукой, давай ему про статус рассказывать, про солидность, про дворянские традиции.
"Какие мне традиции? – говорит Сидор Фомич. – Мне чай пить надо, а не в господа играть!"
И ушел ни с чем.
"Видно, – говорит мне Архип Степанович, – хороша ваша наука, да не для всех. Кто в аватар попадает – те довольны, а кто не попадает – те обижаются".
"Это, – отвечаю, – значит, что аватаров надо больше составлять. Для каждого типа покупателей свой подход".
"А если я всех типов не угадаю?" – спрашивает торговец.
"Тогда, – говорю, – будете по старинке торговать – с каждым покупателем индивидуально разговаривать".
"Так я и раньше так торговал, – смеется Архип Степанович. – Только без всяких аватаров. Видно, наука ваша к тому же самому приводит, что и здравый смысл обыкновенный".
Вот так, товарищи, и познакомился я с удивительной силой научного подхода к торговле. Правильно аватар составишь – как будто в душу покупателя заглянешь. Только применять эту науку надо с умом, чтобы никого не обидеть.
Лендинг для купеческой дочки на выданье
Товарищи, расскажу вам историю о том, как я применял передовые методы рекламного дела к вопросам семейным и сватовским. История эта весьма деликатная, но поучительная для понимания того, что наука торговая может применяться не только к товарам, но и к самым разнообразным жизненным ситуациям.
Обратился ко мне как-то купец второй гильдии Фома Кузьмич Торговников – человек солидный, с капиталом, дом каменный имеет на Мойке. А проблема у него такая: дочка Катерина Фомична уже третий год на выданье сидит, а женихи что-то не очень активно сватаются.
"Петр Семенович, – говорит, – помогите советом. Дочка у меня хорошая, образованная, рукодельная, приданое приличное приготовил. А женихи либо совсем не подходящие приходят, либо хорошие, да быстро отказываются. Может, что-то не так делаю?"
Сижу я, размышляю над его проблемой и вспоминаю главу из заграничной книжки про лендинги. Написано там, что для продажи любого товара надо создавать специальную продающую страницу, где все преимущества расписаны, возражения покупателей предусмотрены, и призыв к действию четкий дан.
"Фома Кузьмич, – говорю, – проблема ваша понятна. Вы дочку свою неправильно презентуете. Надо научный подход применить – лендинг составить".
"Что еще за лендинг?" – удивляется купец. "Я, Петр Семенович, слова такого не знаю".
"Это, – объясняю, – продающая страница называется. То есть такое описание товара… то есть в данном случае невесты, где все достоинства перечислены, все сомнения развеяны, и жених сразу понимает, что выгодное предложение упускать нельзя".
Фома Кузьмич чешет бороду: "Странно как-то звучит, Петр Семенович. Дочка ведь не товар какой-нибудь".
"Конечно не товар, – соглашаюсь, – но принципы презентации везде одинаковые. Надо выгоды подчеркнуть, недостатки объяснить, доверие вызвать".
Беру я перо, бумагу и начинаю составлять лендинг по всем правилам заграничной науки.
"Сначала, – объясняю, – заголовок привлекающий нужен. Не просто 'дочка на выданье', а что-то эдакое. Например: 'Образованная невеста с солидным приданым! Редкое предложение для серьезных намерений!'"
Фома Кузьмич слушает, глаза таращит: "Как в газете объявление какое-то получается".
"В том-то и дело, – говорю, – что надо выделяться среди конкурентов. Дальше описываем основные преимущества: 'Катерина Фомична, 23 года, из купеческой семьи. Умеет читать, писать, считать. Играет на фортепиано. Владеет французским языком. Рукодельница искусная. Характер покладистый, здоровье крепкое.'"
"Это все правда, – одобряет Фома Кузьмич. – А дальше что?"
"Дальше блок с возражениями делаем. Знаете ведь, что женихи могут подумать: 'Ой, уже 23 года, не засиделась ли?' Вот и отвечаем заранее: 'Да, ей уже 23 года, но зато она полностью сформировалась как личность и готова к серьезным отношениям! Молоденькие девочки легкомысленны, а Катерина Фомична – невеста с характером!'"
Фома Кузьмич кивает: "Логично. А еще что могут сказать?"
"Могут подумать: 'Раз долго не выходит замуж, значит, что-то с ней не так'. Отвечаем: 'Катерина Фомична избирательна в женихах, потому что ценит себя и ищет достойную партию. Это говорит о ее разумности, а не о недостатках!'"
"Хитро придумано", – соглашается купец.
"Теперь, – продолжаю, – социальные доказательства добавляем. Это отзывы людей уважаемых. Например: 'Соседка Марья Петровна: Катя – девушка золотая, любой дом украсит!' Или: 'Духовник отец Иоанн: Воспитанная в христианских традициях, богобоязненная.' Или: 'Учительница французского мадам Бонапарт: Одна из самых способных учениц, говорит по-французски почти без акцента.'"
Фома Кузьмич записывает, но вдруг останавливается: "А если кто проверять станет, действительно ли так говорили?"
"Ну, – отвечаю, – можно же попросить их подтвердить. Или написать то, что они действительно могли бы сказать".
"Дальше, – продолжаю, – приданое описываем подробно. Не просто 'приданое есть', а конкретно: 'Десять тысяч рублей наличными, дом на Васильевском острове, мебель красного дерева, столовое серебро, белье голландское, шубы соболиные.' То есть чтобы жених понимал, что получает".
"Это правильно, – соглашается Фома Кузьмич. – А то некоторые думают, что приданое – это три рубля да кукла соломенная".
"И в завершение, – говорю, – призыв к действию с ограничением времени: 'Торопитесь! Такие невесты быстро разбираются! Подавайте прошение о сватовстве сегодня – завтра может быть поздно!' И еще: 'Гарантируем серьезный подход к делу – никаких легкомысленных ухаживаний!'"
Написали мы этот лендинг, переписали набело красивыми буквами, оформили в рамочку. Получилось объявление внушительное, убедительное.
"А куда это размещать будем?" – спрашивает Фома Кузьмич.
"Везде, где женихи бывают, – отвечаю. – В церкви на доске объявлений, в дворянском собрании, в купеческом клубе, в газете можно дать".
Решили начать с газеты. Подал Фома Кузьмич объявление в "Санкт-Петербургские ведомости". Напечатали его крупными буквами, в рамочке.
И что же? На следующий день начали приходить женихи! Правда, не совсем те, которых ожидали.
Первый явился отставной поручик Сидоров. Читает объявление и говорит: "Очень заинтересовался вашим предложением. А можно ли посмотреть документы на дом? И справку о здоровье невесты? И рекомендации от соседей в письменном виде?"
Фома Кузьмич растерялся: "Какие документы? Это же сватовство, не торговая сделка!"
"Как же, – говорит поручик, – в объявлении все так подробно расписано, как в коммерческом предложении. Значит, и подходить надо по-деловому".
Второй жених оказался еще страннее. Мещанин Петров, торгует скобяным товаром. Приходит и заявляет: "Прочитал вашу рекламу. Хорошо составлена, убедительно. Но у меня есть встречное предложение: я тоже жених с достоинствами. Вот мой лендинг".
И выдает бумагу, где про себя написано: "Жених надежный, 35 лет, собственное дело, долгов нет, вредных привычек не имею. Гарантирую супружескую верность и материальную стабильность!"
Катерина Фомична, прочитав это, расплакалась: "Папа, что же это делается? Как будто на ярмарке торгуются!"
Третий жених вообще привел с собой приятеля и говорит: "Я вашу невесту беру, но хочу, чтобы товарищ мой осмотрел товар… то есть познакомился с девушкой. Он в этих делах специалист – уже трех жен сменил".
Тут Фома Кузьмич не выдержал: "Вон отсюда! Это моя дочь, а не лошадь на продажу!"
А на следующий день пришла к Фоме Кузьмичу соседка, купчиха Прасковья Ивановна, и устроила скандал: "Что же это такое? Всему городу объявляете, что ваша Катька лучше всех? А моя Дунька чем хуже? Тоже образованная, тоже с приданым!"
И подает в газету свое объявление: "Настоящая невеста без рекламных трюков! Александра Прасковьевна, 19 лет, скромная, тихая, не хвастает французским языком!"
Начался форменный базар невест в газете. Каждая семья старается свою дочку лучше разрекламировать, конкуренты друг на друга наговаривают.
Катерина Фомична совсем извелась: "Папенька, сделайте что-нибудь! На меня теперь все пальцами показывают – мол, та самая, что себя в газете расхваливала!"
А тут еще редактор газеты прислал записку: "Много жалоб на ваше объявление поступает. Читатели говорят, что это неприлично – семейные дела как торговые делать".
Фома Кузьмич пришел ко мне весь расстроенный: "Петр Семенович, что за система такая? Женихи приходят, но какие-то неподходящие. Да и дочка моя теперь всем посмешищем стала".
"Видно, – говорю, – рано еще применять такие методы к сватовству. Люди к этому не готовы".
"А как же теперь быть?" – спрашивает купец.
"Да по-старинке, – отвечаю, – через сватов, через знакомых. Пусть люди сами девушку узнают, а не по рекламе".
Убрал Фома Кузьмич объявление из газеты, стал искать женихов традиционным способом. И что же? Через месяц нашелся хороший жених – сын купца, человек серьезный. Познакомился с Катериной Фомичной лично, полюбил ее не за лендинг, а за саму.
"Видно, – сказал мне Фома Кузьмич на свадьбе, – есть вещи, которые рекламой не продашь. Любовь – она сама приходит, без всяких призывов к действию".
Вот так, товарищи, и узнал я, что не все в жизни поддается коммерческому подходу. Хотя принципы-то правильные – надо только знать, где их применять можно, а где нельзя.
Как я запускал email-рассылку через городового
Товарищи, поведаю вам историю о том, как я пытался внедрить в нашей столице передовую систему массовых коммерческих уведомлений. История эта весьма поучительная для понимания того, какие препятствия встречает прогрессивная мысль на пути своего воплощения.
Изучал я как-то заграничные книжки по коммерческим наукам и натыкаюсь на главу про email-рассылки. Написано там, что это самый эффективный способ общения с покупателями – можешь одновременно тысячам людей свое предложение отправить, и стоит это почти ничего.
Сижу, размышляю: электрических писем у нас, конечно, нет, но принцип-то можно применить и к обычным письмам! Надо только систему организовать правильную.
И тут приходит ко мне часовщик Тихон Петрович Циферблатов – держит мастерскую на Большой Морской, ремонтирует часы, продает новые. Дела у него неважно идут – конкуренция большая, покупатели разборчивые стали.
"Петр Семенович, – говорит, – помогите советом. Товар у меня хороший, мастерство есть, а клиентов мало. Как бы народу о себе напомнить?"
Объясняю ему про массовые рассылки: "Тихон Петрович, есть такая научная система – можно сразу всем потенциальным покупателям письма разослать с предложениями. Эффективность колоссальная!"
"А как же это делается?" – интересуется часовщик.
"Очень просто, – говорю. – Составляем список всех жителей района, пишем письма и рассылаем по домам. Только не простые письма, а по научной методике".
Тихон Петрович чешет затылок: "Дорого это выйдет, Петр Семенович. Писцов нанимать, бумагу покупать, почтальонов…"
"А вот тут-то и хитрость, – объясняю. – Можно через городовых организовать. Они же и так по домам обходят, порядок проверяют. Пусть заодно и письма разносят".
"А согласятся?"
"За небольшую мзду согласятся. Главное – систему правильно выстроить".
Пошли мы к участковому приставу Семену Семеновичу Порядкову. Объясняю ему идею: "Ваши городовые и так каждый день по району ходят. Пусть заодно коммерческие письма разносят. И вам прибыль, и торговцам польза".
Семен Семенович слушает, усы покручивает: "Интересная мысль. А что в этих письмах писать будете?"
"По науке, – отвечаю. – Сначала сегментацию делаем – богатым одни предложения, бедным другие. Потом автоматизацию запускаем – каждую неделю новые письма. И персонализацию добавляем – к каждому по имени обращаемся".
"Что за сегментация такая?" – не понимает пристав.
Объясняю: "Видите ли, Семен Семенович, не всем подряд одно и то же предлагать надо. Богатому купцу – про золотые часы швейцарские, мещанину среднему достатку – про серебряные, а бедному рабочему – про медные карманные".
"Логично", – соглашается пристав.
"А автоматизация, – продолжаю, – это когда система сама работает. Каждый четверг городовые обход делают и новые предложения разносят. Как часы – точно и регулярно".
"А персонализация?"
"Это когда к каждому человеку лично обращаемся. Не просто 'Уважаемый покупатель', а 'Здравствуйте, Иван Иванович из дома номер 12!' Человек видит, что его знают, – сразу доверие возникает".
Семен Семенович записывает: "Хитро придумано. А сколько платить будете?"
Договорились за копейку с письма. Тихон Петрович согласился – все равно дешевле, чем через почту.
Стали мы систему внедрять. Сначала базу данных составили – список всех жителей района с адресами, именами и примерным достатком. Работа кропотливая, но необходимая.
Потом письма писать начали. Для богатых: "Уважаемый Василий Петрович! Специально для Вас поступили часы золотые швейцарские с музыкальным механизмом. Цена 500 рублей. Подчеркните свой статус!"
Для среднего достатка: "Добрый день, Иван Семенович! Предлагаем часы серебряные надежные, цена 50 рублей. Отличный подарок к празднику!"
Для бедных: "Здравствуйте, Федор Петрович! Часы карманные медные, цена 5 рублей. Никогда не опаздывайте на работу!"
Тихон Петрович читает и удивляется: "Петр Семенович, а откуда вы знаете, что Василий Петрович богатый, а Федор Петрович бедный?"
"По адресам определяю, – объясняю. – Кто на Невском живет – тот богатый, кто в переулке – средний достаток, кто в подвале – бедный. Наука это, социология".
Раздали мы эти письма городовым, объяснили систему. Городовой Митрофан получил участок богатый – Невский проспект и прилегающие улицы. Городовой Федор – средний район. Городовой Сидор – окраины бедные.
"Запомните, – говорю, – каждому жителю свое письмо. Богатым – про золотые часы, бедным – про медные. И обязательно по имени обращайтесь!"
Городовые слушают, головами кивают, но видно, что не очень понимают.
На следующий день начали они рассылку. И сразу проблемы пошли.
Приходит Митрофан и докладывает: "Петр Семенович, дело плохо. Раздал я письма про золотые часы, так один господин на меня накричал: 'Что за наглость! Откуда вы знаете, что я Василий Петрович? И почему решили, что мне часы нужны?'"
"А вы объяснили про персонализацию?" – спрашиваю.
"Объяснял, да только он еще больше рассердился. Говорит: 'Какое право имеете мою личную информацию использовать?'"
Федор тоже жалуется: "А мне мещанин один сказал: 'Я же вчера часы купил! Зачем мне еще одни?' А откуда я знаю, что он вчера покупал?"
Сидор совсем растерянный пришел: "Петр Семенович, на окраинах люди неграмотные попадаются. Даю им письмо, а они читать не умеют. Просят вслух прочитать. А я читаю: 'Здравствуйте, Федор Петрович!' А они говорят: 'Я не Федор, я Степан!' Как тут быть?"
Понял я, что с базой данных проблемы. Но решил продолжать эксперимент.
На второй неделе еще хуже стало. Городовые начали путаться – кому какие письма давать. Митрофан богатому купцу письмо про медные часы за 5 рублей вручил, а бедному слесарю – про золотые за 500. Начались скандалы.
Слесарь Петров пришел к Тихону Петровичу: "Что это вы мне насмехаетесь? Предлагаете часы за 500 рублей, когда знаете, что я 20 рублей в месяц получаю!"
А купец Сидоров обиделся: "Что за оскорбление? Мне, человеку солидному, часы за 5 рублей предлагаете!"
Тихон Петрович ко мне прибегает: "Петр Семенович, что делать? Половина клиентов на меня сердится!"
"Система отлаживается, – успокаиваю. – Надо городовых лучше инструктировать".
Но тут новая проблема возникла. Пристав Семен Семенович вызывает меня и говорит: "Петр Семенович, жалобы на городовых поступают. Говорят, что они не порядок охраняют, а торговлей занимаются. Начальство недовольно".
А потом и вовсе катастрофа случилась. Городовой Митрофан запутался окончательно и стал всем подряд одинаковые письма раздавать. Получил богатый банкир письмо: "Уважаемый Степан Иванович! Часы медные карманные за 5 рублей!" А нищий старик – письмо: "Дорогой Василий Петрович! Швейцарские часы с бриллиантами за 1000 рублей!"
Банкир в полицию жаловаться пошел: "Что за издевательство? Меня Степаном Ивановичем называют, когда я Александр Николаевич!"
А старик думал, что над ним смеются, и тоже скандал устроил.
В довершение всего выяснилось, что некоторые граждане стали письма коллекционировать. Мещанин Орлов собрал уже двадцать писем с разными предложениями и хвастается соседям: "Смотрите, какую переписку с часовщиком веду!"
Тихон Петрович совсем отчаялся: "Петр Семенович, прекращаем эксперимент. Клиентов потерял больше, чем приобрел. А городовые уже бастовать грозятся – говорят, не нанимались они почтальонами работать".
Пришлось систему сворачивать. Пристав Семен Семенович даже облегченно вздохнул: "Хорошо, что закончилось. А то начальство уже интересоваться стало, чем это мои городовые занимаются".
"Видно, – сказал мне Тихон Петрович, – рано еще для массовых рассылок. Люди к этому не готовы. Лучше я по старинке буду работать – кто часы чинить принесет, тому и новые предложу".
Вот так, товарищи, и провалился мой эксперимент с автоматизированными рассылками. Наука-то хорошая, да инфраструктуры подходящей нет. И люди, видно, не привыкли к такому подходу. Хотя принципы правильные – персонализация, сегментация… Может, просто время еще не пришло для таких методов.
А городовые теперь, когда меня видят, головами качают и говорят: "Вон тот чудак идет, что нас в почтальоны переделать хотел!"
О болях целевой аудитории мыловаренного завода
Товарищи, расскажу вам о том, как я применял передовые методы психологического исследования покупателей к мыловаренному делу. История эта весьма познавательная для понимания человеческой натуры и коммерческих хитростей.
Обратился ко мне как-то заводчик Антон Савельевич Мылкин – владеет мыловаренным заводом на Выборгской стороне, производит мыло хозяйственное и туалетное разных сортов. Дело у него шло неплохо, но вот беда – конкуренция усилилась, новые заводы открылись, и покупатели стали разборчивее.
"Петр Семенович, – говорит, – помогите разобраться. Мыло у меня качественное делаю, цены справедливые, а клиенты почему-то все больше к конкурентам уходят. Может, что-то не так с товаром?"
Сижу я, изучаю заграничные книжки, и попадается мне глава про исследование болей покупателей. Написано там, что надо не про товар думать, а про проблемы людей. Каждый покупатель что-то покупает не потому, что товар хороший, а потому, что у него какая-то проблема есть, которую этот товар решает.
Объясняю Антону Савельевичу: "Видите ли, батенька, вы неправильно к делу подходите. Вы думаете про мыло, а надо думать про покупателей. У каждого человека есть боли, страхи, желания. Вот их и надо изучать".
"Какие еще боли?" – не понимает заводчик. "Мыло – оно и есть мыло. Для мытья нужно".
"Не все так просто, – объясняю. – Мыло покупают не просто для мытья, а чтобы какие-то свои проблемы решить. Надо эти проблемы выяснить и рекламу под них делать".
Антон Савельевич чешет затылок: "А как же это проблемы выяснять?"
"Есть научная методика, – говорю. – Глубинные интервью называется. Идем к покупателям, разговариваем с ними, расспрашиваем подробно. Узнаем, что их беспокоит, чего боятся, о чем мечтают".
"И они рассказывать будут?"
"Конечно! Люди любят о себе говорить. Главное – правильные вопросы задавать".
Решили мы эксперимент провести. Пошли на рынок, где торгуют мылом, стали покупателей опрашивать.
Подходим к первой покупательнице – барыня средних лет в платке. Я ей объясняю: "Сударыня, мы исследование научное проводим. Не могли бы вы рассказать, зачем вам мыло нужно?"
Барыня удивилась: "Как зачем? Мыться, конечно!"
"А почему именно мыться хотите?" – продолжаю расспрос.
"Что за странный вопрос? – говорит барыня. – Чтобы чистой быть".
"А зачем чистой быть?"
Барыня смотрит на меня как на сумасшедшего: "Молодой человек, вы что, с ума сошли? Как это зачем чистой быть? Люди же видят!"
"Вот! – говорю Антону Савельевичу. – Первая боль выявлена – страх осуждения. Женщина боится, что люди подумают плохо, если она нечистая будет".
Подходим ко второму покупателю – мещанину в поддевке. Спрашиваю: "Скажите, батенька, а какое мыло предпочитаете?"
"Да какое подешевле, – отвечает мещанин. – Мыло оно и есть мыло".
"А долго ли вы моетесь?" – продолжаю.
"Как долго? Быстро, конечно. Времени-то нет особо".
"Понятно, – говорю Антону Савельевичу. – Вторая боль – нехватка времени. Человек хочет помыться быстро и эффективно".
Третью покупательницу спрашиваю: "А вы какое мыло для семьи покупаете?"
"Хорошее покупаю, – отвечает женщина. – Чтобы дети здоровые были, кожа не портилась".
"Боль номер три, – объясняю заводчику. – Забота о здоровье семьи, страх перед болезнями".
Дальше пошло интереснее. Подходит купчиха разодетая, спрашиваю ее про мыло.
"Я только французское покупаю, – говорит важно. – Русское мыло грубое, для простого народа".
"А почему французское лучше?" – интересуюсь.
"Как же! Во-первых, пахнет приятно. Во-вторых, кожу не сушит. И потом – статус же! Кто французским мылом моется, тот к обществу образованному относится".
"Прекрасно! – говорю Антону Савельевичу. – Боль номер четыре – желание статуса, стремление выделиться из толпы".
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.