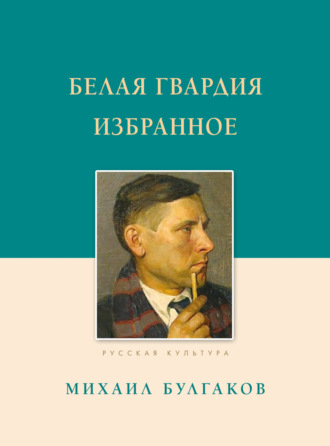
Полная версия
Белая гвардия. Избранное
Булгаков предлагал правительству два возможных варианта своей судьбы. Первый: «Приказать мне в срочном порядке покинуть пределы СССР в сопровождении моей жены Любови Евгеньевны Булгаковой». Он обращался к «гуманности советской власти», призывал «писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу». Булгаков не исключал, что его все же, как и раньше, обрекут «на пожизненное молчание в СССР». На этот случай он просил, чтобы ему дали работу по специальности и командировали в театр в качестве штатного режиссера. Правительственный приказ о командировании требовался потому, что, по признанию писателя: «Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили испуг, несмотря на то что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров отлично известно мое виртуозное знание сцены».
Булгаков предлагал себя как «совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста – режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня.
Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный театр – в лучшую школу, возглавляемую мастерами К.С. Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко». Опальный драматург, если бы его не взяли режиссером, готов был идти хоть рабочим сцены. Он молил с ним «как-нибудь поступить», потому что у него, «драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, в данный момент, – нищета, улица и гибель».
Письмо было отослано в ряд адресов 31 марта и 1 апреля. А уже 18 апреля Булгакову позвонил Сталин. Е.С. Булгакова в 1956 году записала этот разговор по памяти: «18 апреля, часов в 6–7 вечера, он прибежал, взволнованный, в нашу квартиру (с Шиловским) на Бол. Ржевском и рассказал следующее. Он лег после обеда, как всегда, спать, но тут же раздался телефонный звонок и Люба его подозвала, сказав, что из ЦК спрашивают. Михаил Афанасьевич не поверил, решил, что это розыгрыш (тогда это проделывалось), и, взъерошенный, раздраженный, взялся за трубку и услышал:
– Михаил Афанасьевич Булгаков?
– Да, да.
– Сейчас с вами товарищ Сталин будет говорить.
– Что? Сталин? Сталин?
И тут же услышал голос с явно грузинским акцентом:
– Да, с вами Сталин говорит. Здравствуйте, товарищ Булгаков (или Михаил Афанасьевич – не помню точно).
– Здравствуйте, Иосиф Виссарионович.
– Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь… А может быть, правда – вы проситесь за границу? Что, мы вам очень надоели?
(Михаил Афанасьевич сказал, что он настолько не ожидал подобного вопроса (да он и звонка вообще не ожидал) – что растерялся и не сразу ответил):
– Я очень много думал в последнее время – может ли русский писатель жить вне родины. И мне кажется, что не может.
– Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?
– Да, я хотел. Но я говорил об этом, и мне отказали.
– А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они согласятся. Нам бы нужно встретиться, поговорить с вами.
– Да, да! Иосиф Виссарионович, мне очень нужно с вами поговорить.
– Да, нужно найти время и встретиться обязательно. А теперь желаю вам всего хорошего».
Сам Булгаков упомянул об этом памятном разговоре в сохранившемся в его архиве черновике письма к Сталину от 30 мая 1931 года.
Там он признавался, что «писательское мое мечтание заключается в том, чтобы быть вызванным лично к вам.
Поверьте, не потому только, что вижу в этом самую выгодную возможность, а потому, что ваш разговор со мной по телефону в апреле 1930 года оставил резкую черту в моей памяти.
Вы сказали: “Может быть, вам действительно нужно ехать за границу…”
Я не избалован разговорами. Тронутый этой фразой, я год работал не за страх режиссером в театрах СССР».
Есть еще один, поистине уникальный источник сведений о разговоре писателя с диктатором и вообще о личности Булгакова. Это – воспоминания видного американского дипломата Чарльза Болена, позднее, в 50-е годы, ставшего послом США в Москве. В 30-е же годы он был секретарем американского посольства в СССР. Посол Уильям Буллит несколько раз приглашал Булгакова, чей талант драматурга очень ценил, на приемы в посольство. С Боленом автор «Дней Турбиных» познакомился в августе 1934 года. Американский дипломат не был обольщен социалистической действительностью. В годы Второй мировой войны, будучи одним из советников президента Рузвельта по внешнеполитическим вопросам, он убеждал американцев, что «выдающаяся доблесть русской армии и неоспоримый героизм русского народа» не должны заставлять забыть об «опасности, исходящей от большевиков». В своих воспоминаниях, вышедших в 1973 году, Болен несколько страниц посвятил своей дружбе с Булгаковым. Он вспоминал: «Coup de grâce (удар милосердия. – фр.; имеется в виду удар кинжалом, которым рыцарь добивал поверженного противника. – Б.С.) был нанесен Булгакову после того, как он написал рассказ “Роковые яйца”. Речь в нем идет о профессоре, который нечаянно открыл средство роста и по ошибке использовал его для рептилий. Рептилии выросли и превратились в монстров метров сто длиной. Они быстро размножились и начали опустошать сельскую местность. Была призвана Красная Армия, но потерпела полное поражение. Как раз тогда, когда несчастье казалось неизбежным, сверхъестественным образом ударил сильный мороз и убил всех монстров. Небольшой литературный журнал “Недра” напечатал рассказ целиком, прежде чем редакторы осознали, что это – пародия на большевизм, который превращает людей в монстров, разрушающих Россию и могущих быть остановленными только вмешательством Господа.
Когда настоящее значение рассказа поняли, против Булгакова была развязана обличительная кампания. В прессе появились карикатуры с такими, например, подписями: “Сокрушим булгаковщину на культурном фронте”. Булгаков украсил этими карикатурами стены своей квартиры. В конечном счете пьесы были запрещены, писатель не мог устроиться ни на какую работу. Тогда он обратился за выездной визой. Он рассказывал мне, как однажды, когда он сидел дома, страдая депрессией, раздался телефонный звонок и голос в трубке сказал: “Товарищ Сталин хочет говорить с вами”. Булгаков подумал, что это была шутка кого-то из знакомых, и, ответив соответственным образом, повесил трубку. Через несколько минут телефон зазвонил снова, и тот же голос сказал:
«Я говорю совершенно серьезно. Это в самом деле товарищ Сталин». Так и оказалось. Сталин спросил Булгакова, почему он хочет покинуть родину, и Булгаков объяснил, что поскольку он – профессиональный драматург, но не может работать в таком качестве в СССР, то хотел бы заниматься этим за границей. Сталин сказал ему: “Не действуйте поспешно. Мы кое-что уладим”. Через несколько дней Булгаков был назначен режиссером-ассистентом в Первый Московский Художественный театр, а одна из его пьес, “Дни Турбиных”, отличная революционная пьеса, была вновь поставлена на сцене того же театра».
После разговора со Сталиным Булгакова в мае 1930 года приняли режиссером-ассистентом в Художественный театр. Но принципиальных перемен в его положении не произошло. Булгаков по-прежнему был лишен возможности публиковаться в СССР, и написанный им для серии ЖЗЛ роман «Мольер» при жизни Булгакова опубликован не был. Из его пьес 18 февраля 1932 года по решению правительства были возобновлены только «Дни Турбиных». В ноябре 1932 года МХАТ поставил написанную Булгаковым инсценировку «Мертвых душ», которая в течение многих лет с успехом шла на сцене театра. Но оригинальные булгаковские пьесы – «Блаженство», «Адам и Ева», «Последние дни (Александр Пушкин)», «Дон Кихот», «Полоумный Журден» и «Батум», равно как и инсценировка толстовской «Войны и мира», так и не были поставлены при жизни драматурга.
3 октября 1932 года Булгаков развелся с Л.Е. Белозерской, а 4 октября вступил в брак с Еленой Сергеевной Шиловской, которая перед этим развелась со своим мужем Евгением Александровичем Шиловским, видным военачальником, будущим генерал-лейтенантом. Шиловский угрожал Булгакову револьвером и заставил их на полтора года прекратить встречи. Но затем наступила развязка. Елена Сергеевна, принявшая фамилию Булгакова, вспоминала: «В общем, мы встретились и были рядом. Это была быстрая, необычайно быстрая, во всяком случае с моей стороны, любовь на всю жизнь.
Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова двадцать месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что когда я первый раз вышла на улицу, то встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: “Я не могу без тебя жить”. И я ответила: “И я тоже”. И мы решили соединиться, несмотря ни на что».
Елена Сергеевна Булгакова стала основным прототипом Маргариты в самом знаменитом булгаковском романе.
Булгаковская пьеса «Мольер» готовилась к постановке во МХАТе 4 года, но в марте 1936 года была снята после всего лишь семи представлений. Причины снятия «Мольера» заключались в публикации 9 марта статьи «Правды» «Внешний блеск и фальшивое содержание». «Мольер» в ней был назван «реакционной» и «фальшивой» пьесой, Булгаков же обвинен в «извращении» и «опошлении» жизни французского комедиографа, а МХАТу вменялась в вину попытка прикрыть недостатки пьесы «блеском дорогой парчи, бархата и всякими побрякушками». На самом деле судьба пьесы была решена на Политбюро 29 февраля 1936 года, куда председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР Платон Михайлович Керженцев представил записку «О “Мольере” М. Булгакова (в филиале МХАТа)». Там утверждалось, что драматург «хотел в своей новой пьесе показать судьбу писателя, идеология которого идет вразрез с политическим строем, пьесы которого запрещают. В таком плане и трактуется Булгаковым эта “историческая” пьеса из жизни Мольера. Против талантливого писателя ведет борьбу таинственная “Кабала”, руководимая попами, идеологами монархического режима…» Из-за подобных аллюзий было решено снять пьесу не путем формального запрета, а публикацией критической редакционной статьи в «Правде». Вскоре после снятия «Мольера» Булгаков ушел из МХАТа в Большой театр, где с начала октября 1936 года стал либреттистом-консультантом. Булгаков написал четыре либретто: «Черное море», «Минин и Пожарский», «Петр Великий» и «Рашель», но ни одна из опер по булгаковским либретто не была поставлена на сцене театра. Обиженный на Художественный театр за то, что он не стал бороться за «Мольера», Булгаков в 1936–1937 годах написал неоконченный «Театральный роман», где довольно зло спародировал систему Станиславского и юмористически изобразил многих актеров и режиссеров МХАТа.
Главным делом для Булгакова в 1930-е годы стала работа над романом «Мастер и Маргарита», начатым еще в 1929 году. В самых ранних вариантах романа и московские, и ершалаимские сцены были приурочены к одним и тем же июньским дням. Июньская датировка могла быть связана с христианским праздником Дня Вознесения Господня, отмечавшимся в 1929 году 14 июня. Вероятно, поэтому визит буфетчика Театра Варьете к Воланду с требованием замены поддельных денег настоящими на следующий день после сеанса черной магии происходил в первой редакции 12 июня, а следовательно, сатана со свитой и Мастером оставлял Москву как раз в ночь на 14 июня.
Однако месяц нисан, на который в Евангелиях приходятся события Страстной недели – распятие и воскресение Иисуса Христа, – в разные годы соответствовал марту или апрелю юлианского календаря (старого стиля), но никогда – июню. А приуроченность визита Воланда со свитой в Москву к Страстной неделе, несомненно, представлялась Булгакову соблазнительной возможностью. Между тем в XX веке православные Страстная неделя и Пасха ни в одном году не могут приходиться на июнь. Если еще в 1933 году в сохранившейся хронологической разметке глав события в московских сценах в первых главах были приурочены к июню, то в последних Булгаков уже стал исправлять июньскую датировку на майскую, вернувшись к весенней приуроченности действия одного из вариантов 1929 года. В окончательном тексте нет точного указания, когда именно происходит встреча Воланда с литераторами на Патриарших прудах, но, оказывается, эту дату несложно вычислить.
Если исходить из предположения, что московские сцены, как и ершалаимские, происходят на православной Страстной неделе, то требуется определить, когда Страстная среда в XX веке приходится на май по григорианскому календарю (новому стилю), принятому в России с 14 февраля 1918 года. Ведь именно в среду, в «этот страшный майский вечер», Воланд и его свита прибыли в Москву. Выясняется, что только в 1918 и 1929 годах Страстная среда падала на 1 мая. Больше в XX веке такого совмещения, по-своему символического, не было. 1 мая – это официальный советский праздник, отмечавшийся шумными и многолюдными демонстрациями. 1918 год как время действия московской части «Мастера и Маргариты» отпадает – в романе изображена явно не эпоха военного коммунизма, когда не было даже червонцев, которыми так щедро одаривают спутники Воланда публику в Театре Варьете.
Булгаков приурочил начало действия к 1 мая 1929 года, когда праздник международной солидарности трудящихся опять пришелся на Страстную среду. Именно вечером этого дня в Москве появляется Воланд со своей свитой и предсказывает председателю МАССОЛИТа Михаилу Александровичу Берлиозу на Патриарших прудах гибель под колесами трамвая, вероятно, также и за то, что Михаил Александрович в этот скорбный день проводит праздничное собрание правления своей организации. 1929 год был провозглашен Сталиным «годом великого перелома», призванного покончить с нэпом и обеспечить переход к сплошной коллективизации и индустриализации. Тогда же переломилась и судьба Булгакова: все его пьесы оказались под запретом. Ночь же на 1 мая – это знаменитая Вальпургиева ночь, великий шабаш ведьм на Брокене, восходящий еще к языческому древнегерманскому весеннему празднику плодородия. Прямо после Вальпургиевой ночи Воланд со свитой и прибывает в Москву. А последний полет Воланда, его товарищей и Мастера и Маргариты происходит в ночь на Пасху, с субботы 4-го на воскресенье 5-го мая.
В ранней редакции романа Иешуа говорил Пилату, что «тысяча девятьсот лет пройдет, прежде чем выяснится, насколько они наврали, записывая за мной». Появление в Москве Воланда, рассказывающего свой вариант Евангелия, и Мастера, создающего роман о Понтии Пилате, совпадающий с рассказом сатаны, как раз и означает выяснение истины, открытой Иешуа, но искаженной переписчиками. Если московские сцены датированы 1929 годом, то срок в 1900 лет должен указывать, что ершалаимские сцены относятся к 29 году.
В одном из вариантов последней редакции, написанном в 1937 году, на предложение поэта Ивана Бездомного отправить Канта годика на три на Соловки Воланд ответствует, что «водрузить его в Соловки невозможно по той причине, что он уже сто двадцать пять лет находится в местах, гораздо более отдаленных от Патриарших прудов, чем Соловки». Иммануил Кант скончался 12 февраля 1804 года, так что происходящее на Патриарших оказывается однозначно приурочено, принимая во внимание слова о майском вечере, к маю 1929 года. В окончательном тексте Булгаков заменил «сто двадцать пять лет» на «с лишком сто лет», чтобы избежать прямого указания на время действия, но косвенные указания на Страстную неделю 1929 года сохранил.
События московских глав в пародийном, сниженном виде повторяют события ершалаимских через промежуток ровно в 1900 лет. В финале, в пасхальную ночь на воскресенье, московское и ершалаимское время сливаются воедино. Это одновременно и 5 мая (22 апреля) 1929 года, и 16 нисана 29 года (точнее, того года иудейского календаря, который приходится на этот год юлианского календаря) – день, когда должен воскреснуть Иешуа Га-Ноцри, и его видят только что прощенный Понтий Пилат, Мастер с Маргаритой и Воланд со своими помощниками. Становится единым пространство московского и ершалаимского миров, причем происходит это в вечном потустороннем мире, где властвует «князь тьмы» Воланд. Ход современной жизни смыкается с романом Мастера о Понтиий Пилате. Оба этих героя обретают жизнь в вечности, как это было предсказано Пилату – внутренним (или божественным?) голосом, говорившим о бессмертии, а Мастеру – Воландом, после прочтения романа о прокураторе Иудеи. Роман о Пилате в сцене последнего полета стыкуется с «евангелием от Воланда», и сам Мастер, прощая прокуратора, в один и тот же миг завершает и собственное повествование, и рассказ сатаны. Затравленный в земной жизни автор романа о Понтии Пилате обретает бессмертие в вечности. Временная дистанция в 19 столетий при этом как бы свертывается, дни недели и месяца в древнем Ершалаиме и современной Москве совпадают друг с другом. Такое совпадение действительно происходит во временном промежутке в 1900 лет, включающем в себя целое число (25) 76-летних лунно-солнечных циклов древнегреческого астронома и математика Калиппа – наименьших периодов времени, содержащих равное число лет по юлианскому и иудейскому календарям. День христианской Пасхи становится днем воскресения Иешуа в высшей надмирности и Мастера в потустороннем мире Воланда.
В данном случае писатель опирается на книгу о. Павла Флоренского «Столп и утверждение истины», в которой в качестве приложения помещены специальные «Заметки о троичности», а третье письмо из двенадцати писем основной части книги озаглавлено «Триединство». Флоренский доказывает, что троичность – это наиболее древний из всех архетипов человеческого мышления, и возводит ее к Божественной Троице. Идея троичности получила дальнейшее развитие в романе «Мастер и Маргарита», где Булгаков создал три мира – древний ершалаимский, современный московский и вечный потусторонний, а также три ряда функционально подобных персонажей.
В качестве примеров троичности Флоренский привел трехмерность пространства; три основные категории времени: прошедшее, настоящее и будущее; наличие трех грамматических лиц практически во всех языках; минимальный размер полной семьи в три человека: отец, мать, дитя; философский закон трех моментов диалектического развития: тезис, антитезис, синтез; а также наличие трех координат человеческой психики, выражающихся в каждой отдельной личности: разума, воли и чувства. Сюда можно добавить широко известный в лингвистике факт, что никогда не заимствуются из других языков названия первых трех числительных: один, два и три, а также то неоспоримое обстоятельство, что в художественной литературе трилогий значительно больше, чем дилогий или тетралогий. Флоренский доказал, что троичность как основную категорию бытия невозможно логически вывести ни из каких оснований, и потому возводил ее к изначальному триединству Божественной Троицы.
Отметим, что элементы троичности присутствуют не только в христианстве, но и в подавляющем большинстве других религий народов мира. Если же подходить к проблеме троичности с точки зрения науки, а не веры, то троичность бытия можно прежде всего объяснить троичностью человеческого, которая, в свою очередь, напрямую связана с установленной нейрофизиологией еще в XIX веке асимметрией функций полушарий головного мозга. При этом правое полушарие воспринимает внешний мир со всеми его красками и звуками и дает образ для мышления, а левое полушарие преобразует наше восприятие мира в грамматические и логические формы и осуществляет сам мыслительный процесс. Правое полушарие отвечает за конкретное, левое – за абстрактное.
Число 3 – это простейшее выражение асимметрии в целых числах по формуле 3=2+1, тогда как простейшая формула симметрии 2=1+1. Троичность мышления сводится к тому, что окружающую действительность человек воспринимает как трехсоставную. В связи с этим можно указать также, что подавляющее большинство исторических и историософских теорий, призванных объяснить явления действительности, не относящиеся непосредственно к мышлению одного человека, все равно несут в себе троичную структуру. Поэтому они вряд ли корректны, поскольку передают не особенности объясняемого, а особенности мышления, бессознательно присущие творцам этих теорий. В качестве примера приведем то, что в истории различных цивилизаций, как и в жизни человека, всегда выделяют молодость, зрелость и старость (или зарождение, расцвет и упадок). На самом деле данная периодизация не имеет отношения к существованию той или иной цивилизации, а только к способу истолкования ее историком или философом. Еще один пример – выделение Я, ОНО и Сверх-Я в психоанализе Зигмунда Фрейда. Получается, что для объяснения действительности адекватно самой действительности нам необходимо абстрагироваться от особенностей нашего мышления. Троичность мышления неразрывно связана с присущей разуму свободой воли. Если бы человеческое мышление было симметричным, то человек никогда не смог принять решение о выборе между двумя альтернативами, оставаясь в положении буриданова осла, который, согласно известному парадоксу, обладая абсолютной свободой воли и находясь на абсолютно одинаковом расстоянии от двух одинаковых вязанок хвороста, умрет от голода, так как не сможет отдать предпочтение ни одной из них.
Симметрия преобладает в природе, тогда как разум асимметричен. И троичный архетип, без сомнения, самый древний. Он возникает в тот момент, когда возникает само мышление (или разум).
В дальнейшем именно троичность стала основой композиции романа «Мастер и Маргарита». Три основных мира романа – древний ершалаимский, вечный потусторонний и современный московский, не только связаны между собой (роль связки выполняет мир сатаны), но и обладают собственными шкалами времени. В потустороннем мире оно вечно и неизменно, как бесконечно длящаяся полночь на Великом балу у сатаны. В ершалаимском мире – время прошедшее, в московском мире – настоящее. Эти три мира имеют три коррелирующих между собой ряда основных персонажей, причем представители различных миров формируют триады, объединенные функциональным подобием и сходным взаимодействием с персонажами своего мира, а в ряде случаев – и портретным сходством. Но два таких важнейших героя, как Мастер и Га-Ноцри, да и сам Воланд, входят в роман фактически без биографии. Здесь они существенно отличаются от Понтия Пилата, чье жизнеописание, пусть в зашифрованном виде, в романе присутствует. У читателей остается впечатление, что не помнящий своих родителей бродяга из Галилеи и творец истории прокуратор Иудеи существовали и будут существовать всегда. В этом отношении они уподоблены Богу, чье бытие представляется вечным. Укажем, что, как и бытие Божие, логично было бы представить Вселенную не только бесконечной, но и безначальной, что, тем не менее, восстает против коренных особенностей человеческого мышления и не находит поддержки в системах философии, признающих первичным сознание. Несмотря на это, безначально-бесконечная интерпретация мирового пространства присутствует в финале последнего булгаковского романа. Маргарита же уникальна в структуре романа, как уникальна олицетворяемая ею любовь.
Для того чтобы пробить своему великому роману дорогу в печать, Булгаков согласился написать для МХАТа к сталинскому юбилею в 1939 году пьесу о молодом Сталине, взяв за основу организованную им Батумскую демонстрацию 1902 года. Однако тут драматурга ждало фиаско. Пьеса была запрещена Сталиным к постановке и публикации, хотя он и сказал, что «пьесу “Батум” он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить». Причины запрета так и остались неизвестны Булгакову и руководству МХАТа. Только через много лет после смерти Сталина в архиве были найдены неопубликованные воспоминания Натальи Иосифовны Киртадзе (или Киртава) – Сихарулидзе, которая послужила прототипом Наташи – единственного женского персонажа «Батума», играющего в пьесе важную роль. Оказалось, что у них был короткий роман со Сталиным, но вскоре она отвергла предложение Сталина переехать к нему в Тифлис из Батума, и Сталин на нее за это очень обиделся. По воспоминаниям Натальи Иосифовны, когда через несколько месяцев они вновь встретились на партсобрании в Батуме, «я подошла поздороваться, но, увидев меня, он крикнул с озлоблением: “Уйди от меня”». Очевидно, и тридцать с лишним лет спустя Сталин не мог забыть былую обиду и не желал, чтобы единственной женщиной в пьесе была та, сходство которой с реальной Натальей Киртадзе-Сихарулидзе было бы очевидным для участников батумских событий. В то же время Сталин, естественно, не мог посвящать Булгакова и руководителей МХАТа в особенности своих взаимоотношений с Натальей Киртадзе-Сихарулидзе, а они тем более не могли знать об этом.
Булгаков заболел острым нефросклерозом буквально в тот же день, когда узнал о запрете «Батума», – 14 августа 1939 года. В то время нефросклероз был неизлечимой смертельной болезнью. От него в 1907 году в возрасте 47 лет скончался отец Михаила Афанасьевича Афанасий Иванович Булгаков. Как врач, писатель понимал, что он обречен. 4 октября 1939 года Булгаков начал диктовать жене последнюю правку к «Мастеру и Маргарите». Диктовка с перерывами продолжалась вплоть до 13 февраля 1940 года, когда Михаил Афанасьевич прекратил ее на словах Маргариты: «Так это, стало быть, литераторы за гробом идут?» Булгаков успел фабульно завершить роман, но не успел его окончательно отредактировать. 11 февраля 1940 года Булгаков подписал Елене Сергеевне свою фотографию в черных очках: «Жене моей Елене Сергеевне Булгаковой. Тебе одной, моя подруга, подписываю этот снимок. Не грусти, что на нем черные глаза: они всегда обладали способностью отличать правду от неправды.









