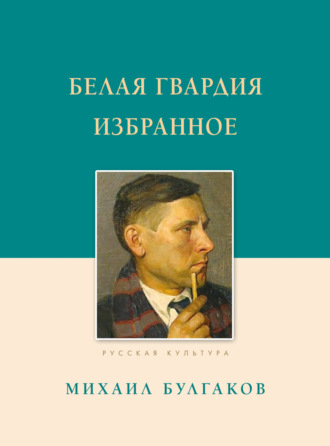
Полная версия
Белая гвардия. Избранное

Михаил Булгаков
Белая гвардия. Избранное
© Соколов Б.В., вступительная статья, комментарии, 2025
© Издательство «Даръ», 2025
© ООО ТД «Белый город», 2025
⁂Михаил Булгаков: Краткая биография
Михаил Афанасьевич Булгаков (1891–1940) – одна из крупнейших величин не только русской, но и мировой литературы. Сегодня Булгаков – едва ли не самый популярный из русских писателей 20–30-х годов XX века.
Почти все булгаковские произведения в той или иной степени автобиографичны. Факты собственной биографии писатель причудливо сочетал с полетом художественной фантазии. Были еще тысячи и тысячи книг, прочитанных Булгаковым и преображенных его гением в романах, рассказах и пьесах. Преломление чужих литературных образов часто помогает понять взгляды самого писателя. А узнаваемые персонажи-современники нередко позволяют приоткрыть непрочитанные еще страницы булгаковской биографии. И в каждом из произведений факты собственной биографии Булгаков преломляет через события эпохи.
Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3(15) мая 1891 года в Киеве. Об этом сохранилась запись в метрической книге Киево-Подольской Крестовоздвиженской церкви: «Тысяча восемьсот девяносто первого года родился мая третьего, а крещен восемнадцатого числа Михаил. Родители: доцент Киевской духовной академии Афанасий Иванович Булгаков и законная жена его Варвара Михайловна, оба православного вероисповедания». Крестил Михаила 18 мая священник Матвей Бутовский.
Будущий писатель появился на свет в доме № 28 по Воздвиженской улице, принадлежавшем крестившему Михаила священнику Крестовоздвиженской церкви Матвею Бутовскому (сейчас это дом № 10). А с 1904 года родители Михаила поселились на Ильинской улице, 5/8, в угол с Волошской, занимая квартиру в доме Духовной академии.
В 1900 году Булгаковы приобрели дачу под Киевом в поселке Буча, где проводили лето. Сестра писателя Надежда вспоминала: «Роскошь была в природе. Роскошь была в цветнике, который развела мать, очень любившая цветы… Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети вырастали на свободе, на просторе, пользуясь всеми радостями природы». По ее словам, мать говорила детям: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, – это образование». В 1909 году Булгаков закончил киевскую Первую Александровскую гимназию и поступил на медицинский факультет Киевского университета.
Писатель Константин Паустовский, учившийся в гимназии вместе с Булгаковым, вспоминал: «Булгаков был старше меня, но я хорошо помню стремительную его живость, беспощадный язык, которого боялись все, и ощущение определенности и силы – оно чувствовалось в каждом его, даже незначительном слове. Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу… Почти всегда в первых рядах победителей был гимназист с задорным вздернутым носом – будущий писатель Михаил Булгаков. Он врезался в бой в самые опасные места. Победа носилась следом за ним и венчала его золотым венком из его собственных растрепанных волос. Оболтусы из первого отделения боялись Булгакова и пытались опорочить его. После боя они распускали слухи, что Булгаков дрался незаконным приемом – металлической пряжкой от пояса. Но никто не верил этой злой клевете, даже инспектор Бодянский…». Однако серьезных неприятностей все эти шалости Михаилу не принесли. В «Белой гвардии» и «Днях Турбиных» Булгаков перенес действие в здание Александровской гимназии. Именно там располагается артиллерийский дивизион, куда вступают добровольцами его герои. Ни в каком артиллерийском дивизионе Булгаков никогда не служил, и в те декабрьские дни 1918 года часть, куда он пошел добровольцем, не располагалась в Александровской гимназии. Но Михаилу Афанасьевичу очень нужно было перенести кульминацию действия своего любимого романа именно в этом здании, с которым было связано столько светлых и забавных воспоминаний.
26 апреля 1913 года Булгаков венчался с Татьяной Николаевной Лаппа, дочерью управляющего Саратовской казенной палатой, в Киево-Подольской церкви Николы Доброго. Венчал их друг семьи Булгаковых о. Александр Глаголев. Весной 1916 года Михаил Афанасьевич успешно окончил университет и три месяца работал врачом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольска и Черновиц. С конца сентября 1916 года Булгаков трудился врачом Никольской земской больницы Сычевского уезда Смоленской губернии. В сентябре 1917 года он был переведен в Вяземскую городскую земскую больницу заведующим инфекционным и венерическим отделением.
Тогда же Булгаков получил удостоверение Сычевской уездной земской управы о том, что «зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником».
Годы Гражданской войны в булгаковской биографии характеризуются, наверное, наибольшим числом душевных потрясений, связанных с событиями братоубийственной борьбы. Это и наименее документированный отрезок жизненного пути писателя. Известно только, что в конце февраля 1918 года Булгаков, освобожденный от военной службы по болезни, вместе с женой вернулся в Киев. Весной этого года Булгаков избавился с помощью второго мужа матери, врача Ивана Павловича Воскресенского, от морфинизма, к которому пристрастился в Никольском, и открыл частную практику в Киеве как венеролог. 14 декабря 1919 года, по воспоминаниям Булгакова, записанным его другом философом и литературоведом Павлом Сергеевичем Поповым, он «был на улицах города. Пережил близкое тому, что имеется в романе» («Белая гвардия»). В этот день в город вошли войска Украинской Директории во главе с С.В. Петлюрой, а Булгаков в составе офицерской дружины безуспешно пытался защитить правительство гетмана П.П. Скоропадского.
В начале февраля 1919 года Булгаков был мобилизован как военный врач в армию Директории Украинской Народной Республики, но в ночь на 3 февраля при отступлении украинских войск из Киева успешно дезертировал и остался в городе. В конце августа 1919 года Булгаков предположительно был мобилизован в Красную Армию в качестве военного врача и вместе с ней покинул Киев. Но уже 14–16 октября вместе с частями Красной Армии будущий писатель вернулся в Киев и в ходе боев на улицах города перешел на сторону Вооруженных сил Юга России (или попал к ним в плен). После этого Булгаков стал военным врачом (начальником санитарного околотка) 3-го Терского казачьего полка. Вместе с полком он прибыл на Северный Кавказ в конце октября или в начале ноября 1919 года и в качестве военного врача участвовал в походе на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев. 26 ноября вышла первая публикация Булгакова – фельетон «Грядущие перспективы» в газете «Грозный», где он крайне пессимистически оценивал перспективы Белого движения.
Конец ноября или в начале декабря 1919 года Булгаков приехал во Владикавказ, где работал в военном госпитале. Но уже в конце декабря Булгаков оставляет службу в госпитале и вообще, по его словам, «окончательно бросил занятие медициной» и начал работать журналистом в местных белогвардейских газетах. В конце февраля или в начале марта 1920 года Булгаков заболел возвратным тифом и поэтому не смог эвакуироваться из Владикавказа вместе со ВСЮР. Болезнь продолжалась до начала апреля. Булгаков очнулся, когда во Владикавказе уже были красные. Он стал работать заведующим литературным отделом (Лито) и театральным отделом (Тео) подотдела искусств Владикавказского ревкома, читал лекции перед спектаклями оперной и драматической труппы местного Русского театра, а 1 июля 1920 года выступил на диспуте о Пушкине. Но уже в ноябре 1920 года Булгаков вместе с заведующим писателем Юрием Львовичем Слезкиным и еще двумя сотрудниками были изгнаны из подотдела искусств как бывшие белогвардейцы.
Весной 1921 года Булгакову удалось поставить во Владикавказе свои пьесы «Парижские коммунары» и «Сыновья муллы» в Первом советском театре Владикавказа. В мае он выехал в Тифлис (Тбилиси) через Баку, а в конце июня вместе с женой отправился в Батум (Батуми), предполагая оттуда уехать за границу. Но ему не удалось ни эмигрировать, ни найти работу в Батуме, и в сентябре 1921 года Булгаков отправился в Киев, а оттуда – в Москву, куда прибыл 28 сентября. В октябре – ноябре Булгаков работал секретарем Литературного отдела (Лито) Главполитпросвета Наркомпроса. Тогда же он поселился в квартиру 50 в доме 10 по Большой Садовой, запечатленной в романе «Мастер и Маргарита» в образе Нехорошей квартиры. Затем Михаил Афанасьевич несколько месяцев бедствовал. Он записал в дневнике 9 февраля 1922 года: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядьки (Николая Mихайловича Покровского. – Б.С.) немного муки, постного масла и картошки. У Бориса (брата Андрея Михайловича Земского, мужа Надежды Афанасьевны Булгаковой. – Б.С.) – миллион. Обегал всю Москву – нет места. Валенки рассыпались». Булгаков сменил несколько работ, пока не стал фельетонистом газеты «Гудок». Это произошло в апреле 1922 года. А в мае писатель начал сотрудничать в берлинской газете «Накануне». Булгаков мощно дебютировал в русской литературе в 1920-е годы. Уроженец Киева, он осенью 1921 года навсегда переехал в Москву и стал одним из самых московских писателей. Но дебютировал Булгаков произведениями, которые отражали его опыт в годы Гражданской войны в Киеве и на Северном Кавказе – романом «Белая гвардия» и повестью «Записки на манжетах», где также отражены первые месяцы московской жизни писателя. Свой опыт земского врача в смоленской глуши он запечатлел в «Записках юного врача» и повести «Морфий». Необычным и уникальным для советской литературы того времени было то, что в «Белой гвардии», равно как и в поставленной в Художественном театре по ее мотивам пьесе «Дни Турбиных», Гражданская война показана глазами белых, а не красных. Точно так же в «Записках на манжетах» события Гражданской войны и восстановления советской власти на Северном Кавказе даны глазами интеллигента, которого нельзя с уверенностью отнести ни к белому, ни к красному стану и который с переменным успехом пытается противостоять вульгаризации культуры новой властью. А новый советский быт Булгаков блестяще запечатлел в повестях «Дьяволиада», «Роковые яйца» и «Собачье сердце» (последняя повесть не была пропущена цензурой и так и не была опубликована при жизни автора), в рассказах и фельетонах, публиковавшихся в газетах «Накануне» и «Гудок» и в других изданиях, а также в пьесе «Зойкина квартира», поставленной в 1926 году в Театре имени Евгения Вахтангова. В другой пьесе, «Багровый остров», поставленной в 1928 году в Камерном театре, Булгаков остроумно спародировал представления сменовеховской части эмиграции о событиях революции и Гражданской войны.
Советская пресса утверждала, что «Багровый остров» – это пасквиль на революцию. По этому поводу Булгаков писал в знаменитом письме правительству СССР от 28 марта 1930 года: «Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает панегиристов и запуганных “услужающих”. Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее. Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что “Багровый остров” – памфлет на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция».
Из тактических соображений драматургу в письме правительству, конечно, выгоднее было выставить главной мишенью в пьесе не слишком просвещенных и охваченных запретительным ражем чиновников Главного репертуарного комитета, а не социалистическую революцию и строй в целом. Но косвенно он и тут признавал, что если не пасквиль, то памфлет на революцию в «Багровом острове» присутствует.
26 октября 1923 года Михаил Афанасьевич признался в дневнике:
«В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого. Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей выливающимися (отражающимися) в произведениях, трудно печататься и жить».
Советская критика обрушилась на Булгакова как на писателя, который не рядится «даже в попутнические цвета». Событием, выходящим далеко за пределы литературы, стала премьера в Художественном театре в 1926 году булгаковской пьесы «Дни Турбиных», написанной по мотивам романа «Белая гвардия». Несмотря на все цензурные потери, «Дни Турбиных» стали первой (и десятилетиями оставались единственной) пьесой в советском театре, где белый лагерь был показан не карикатурно, а с сочувствием и личная порядочность и честность большинства участников Белого движения не ставились под сомнение. Вина же за поражение возлагалась на штабы и генералов, не сумевших предложить программу, способную привлечь народ на сторону белых. Особый интерес к мхатовскому спектаклю проявляла интеллигентная публика. За первый сезон (1926/27 годы) «Дни Турбиных» прошли во МХАТе (были разрешены к постановке только в этом театре) 108 раз, что значительно превышает среднее число постановок за сезон всех остальных спектаклей московских театров. Это обеспечивало Булгакову авторские отчисления, достаточные для вполне сносной жизни.
В апреле 1924 года Булгаков развелся с Т.Н. Лаппа и в сентябре 1924 года начал жить с Любовью Евгеньевной Белозерской, вернувшейся в Москву из эмиграции. Их брак был зарегистрирован 30 апреля 1925 года.
Белые офицеры у Булгакова были очень уж симпатичны, и единственный, кто из белых отрицательный герой, так это, опереточный гетман, но и он показан не страшно, а всего лишь смешно, как и карьерист Тальберг.
Отрицательные в пьесе, конечно же, петлюровцы, но они олицетворяют, скорее, не конкретных сторонников Симона Петлюры, а народную стихию вообще. Цензура это быстро поняла, и сцена в петлюровском штабе была изъята при постановке.
Коммунисты демонстративно покидали спектакли «Дней Турбиных». Владимир Маяковский публично призывал устроить обструкцию и сорвать пьесу. Единственная объективная рецензия на «Дни Турбиных» появилась в «Комсомольской правде» 29 декабря 1926 года за подписью Н. Рукавишникова. Она была написана как ответ на ранее опубликованное письмо поэта А. Безыменского (в будущем – одного из прототипов булгаковского Бездомного), назвавшего Булгакова «новобуржуазным отродьем». Рукавишников пытался уверить коллег-критиков и власти, что «живых людей» в «Днях Турбиных» можно «показать зрителю совершенно безопасно», но никого не убедил. К 1930 году в булгаковской коллекции, как он признавался в письме правительству 28 марта 1930 года, скопилось 298 «враждебно-ругательных» отзывов и лишь 3 «похвальных», причем подавляющее большинство рецензий было посвящено «Дням Турбиных».
А вот в эмиграции на «Дни Турбиных» появилось немало положительных рецензий. Так, известный писатель Михаил Осоргин писал в «Последних новостях» 20 октября 1927 года: «Булгаков… по мере сил и таланта старается быть объективным. Его герои – не трафаретные марионетки в предписанных костюмах, а живые люди. Он усложняет свою задачу тем, что все действие романа переносит в стан “белых”, стараясь именно здесь отделить овец от козлищ, искренних и героев от шкурников и предателей идей белого движения. Он рисует картину страшного разложения в этом стане, корыстного и трусливого обмана, жертвой которого явились сотни и тысячи юнкеров, офицеров, студентов, честных и пылких юношей, по-своему любивших родину и беззаветно отдававших ей жизнь. Живописуя трагическую обреченность самого движения, он не пытается лишить его чести и не поет дифирамбов победителям, которых даже не выводит в своем романе… В условиях российских такую простоту и естественную честность приходится отметить как некоторый подвиг…»
Булгаковская пьеса «Бег», описывающая русскую эмиграцию и предназначенная для Художественного театра, так и не была поставлена при жизни драматурга. 9 мая 1928 года Главрепертком признал «Бег» «неприемлемым» произведением, поскольку автор никак не рассматривал кризис мировоззрения тех персонажей, которые принимают советскую власть, и политическое оправдание ими этого шага.
Цензура сочла также, что белые генералы в пьесе чересчур героизированы, и даже глава крымской контрреволюции Врангель будто бы по авторской характеристике «храбр и благороден». В первой редакции пьесы белый главнокомандующий, в котором легко узнаваем главнокомандующий Русской армией в Крыму генерал-лейтенант барон Петр Николаевич Врангель (журнальная вырезка с фотографией его похорон сохранилась в булгаковском архиве), в портретной ремарке описывался следующим образом: «На лице у него усталость, храбрость, хитрость, тревога» (но никак не благородство). Кроме того, Главреперткому очень не понравилась «эпизодическая фигура буденновца в 1-й картине, дико орущая о расстрелах и физической расправе», что будто бы «еще более подчеркивает превосходство и внутреннее благородство героев белого движения» (иного изображения врагов, чем простая карикатура, цензоры решительно не признавали).
На сторону пьесы встал Максим Горький. 9 октября 1928 года на заседании художественного совета он высоко отозвался о «Беге»: «Чарнота – это комическая роль, что касается Хлудова, то это больной человек. Повешенный вестовой был только последней каплей, переполнившей чащу и довершившей нравственную болезнь. Со стороны автора не вижу никакого раскрашивания белых генералов. Это – превосходнейшая комедия, я ее читал три раза, читал А.И. Рыкову (председателю Совнаркома. – Б.С.) и другим товарищам. Это – пьеса с глубоким, умело скрытым сатирическим содержанием…
Когда автор здесь читал, слушатели (и слушатели искушенные) смеялись. Это доказывает, что пьеса очень ловко сделана.
“Бег” – великолепная вещь, которая будет иметь анафемский успех, уверяю вас».
Однако точку в споре вокруг «Бега» поставил Сталин. 2 февраля 1929 года он ответил на письмо драматурга Владимира Наумовича Билль-Белоцерковского о булгаковской пьесе. Иосиф Виссарионович писал: «“Бег” есть проявление попытки вызвать жалость, если не симпатию, к некоторым слоям антисоветской эмигрантщины, – стало быть, попытка оправдать или полуоправдать белогвардейское дело. “Бег”, в том виде, в каком он есть, представляет антисоветское явление.
Впрочем, я бы не имел ничего против постановки “Бега”, если бы Булгаков прибавил к своим восьми снам еще один или два сна, где бы он изобразил внутренние социальные пружины гражданской войны в СССР, чтобы зритель мог понять, что все эти по-своему “честные” Серафимы и всякие приват-доценты оказались вышибленными из России не по капризу большевиков, а потому, что они сидели на шее у народа (несмотря на свою “честность”), что большевики, изгоняя вон этих “честных” сторонников эксплуатации, осуществляли волю рабочих и крестьян и поступали поэтому совершенно правильно».
Близкие к Булгакову люди единодушно свидетельствуют, что он считал «Бег» своей лучшей пьесой. Хлудова должен был играть Николай Павлович Хмелев, игравший в мхатовской постановке Алексея Турбина, и, как утверждала Любовь Евгеньевна, «мы с М.А. заранее предвкушали радость, представляя себе, что сделает из этой роли Хмелев со своими неограниченными возможностями. Пьесу Московский Художественный театр принял и уже начал репетировать… Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме объявился покойник…» Третья жена писателя Елена Сергеевна Булгакова вспоминала: «“Бег” был для меня большим волнением, потому что это была любимая пьеса Михаила Афанасьевича. Он любил эту пьесу, как мать любит ребенка».
О «Днях Турбиных», которая в действительности была любимой пьесой Сталина, вождь в том же письме Билль-Белоцерковскому отозвался более благосклонно: «Почему так часто ставят на сцене пьесы Булгакова? Потому, должно быть, что своих пьес, годных для постановки, не хватает. На безрыбье даже “Дни Турбиных” – рыба». При этом Сталин оговорился, что данная пьеса «не так уж плоха, ибо она дает больше пользы, чем вреда. Не забудьте, что основное впечатление, остающееся у зрителя от “Дней Турбиных”, есть впечатление, благоприятное для большевиков: “Если даже такие люди, как Турбины, вынуждены сложить оружие и покориться воле народа, признав свое дело окончательно проигранным, – значит, большевики непобедимы, с ними, большевиками, ничего не поделаешь”. “Дни Турбиных” есть демонстрация всесокрушающей силы большевизма». И тут Иосиф Виссарионович поспешил уточнить: «Конечно, автор ни в какой мере “не повинен” в этой демонстрации. Но какое нам до этого дело?»
К концу 20-х годов все пьесы Булгакова были запрещены и он был лишен возможности публиковать свои произведения в СССР (в начале 30-х годов были вновь разрешены только «Дни Турбиных»). Один из самых популярных советских драматургов 20-х годов, Булгаков в 30-е годы вынужден был замолчать, продолжая, однако, писать «в стол» свой главный роман «Мастер и Маргарита», который после своей публикации в 1966–1967 годах сделал имя Булгакова поистине бессмертным.
После того как была запрещена новая пьеса Булгакова о Мольере «Кабала святош», драматург 28 марта 1930 года обратился с письмом к Правительству СССР. Он так характеризовал свою жизненную ситуацию: «Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы, – блестящая пьеса». После этого подчеркивал Булгаков: «…погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа “Театр”.
Все мои вещи безнадежны».
Причину такого к себе отношения писатель видел в своих усилиях «стать бесстрастно над красными и белыми» и в том, что «стал сатириком и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима».
В этом письме Булгаков также изложил свое идейное и писательское кредо. Совет ряда «доброжелателей» «сочинить «коммунистическую пьесу»… а кроме того, «обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик», автор письма решительно отверг: «Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет».
Булгаков вполне соглашался с мнением германской печати о том, что «Багровый остров» – это «первый в СССР призыв к свободе печати». Он так суммировал главное в своем творчестве: «Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.
Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя M.E. Салтыкова-Щедрина». Писатель сводил мнение критики в короткую формулу: «Всякий сатирик в СССР посягает на советский строй».
Здесь слова о себе как о «мистическом писателе» помещены в явно иронический контекст, что, разумеется, было бы немыслимо для настоящего мистика.
Последними чертами своего творчества «в погубленных пьесах “Дни Турбиных”, “Бег” и в романе “Белая гвардия”» Булгаков назвал «упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях “Войны и Мира”. Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией».









