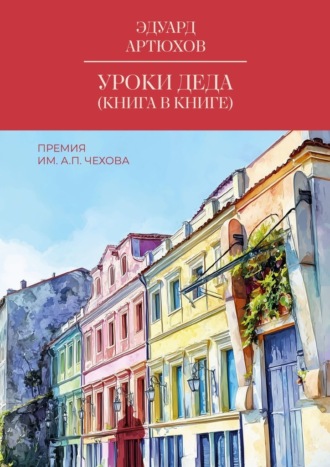
Полная версия
Уроки деда (книга в книге). Премия им. А. П. Чехова

Уроки деда (книга в книге)
Премия им. А. П. Чехова
Эдуард Артхов
ИД «Литературная Республика»
Выпускающий редактор Виктор Петров
Верстка Егор Савченков
© Эдуард Артхов, 2025
© «Литературная Республика», 2025
ISBN 978-5-605-49094-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Книга первая. Двенадцать уроков деда
Мои мечты. Кратко о себе (предисловие)
Мечты. Они есть у каждого. Они сбываются или не сбываются. Но они, однажды посетив тебя, никуда более не уходят. Они живут с тобой. Какие-то, так и не достигнув своего, засыпают, уходят в подсознание, ожидая возможности реализоваться. А другие становятся путеводными звездами на жизненном пути. Как бы ни было, все они влияют на наше мироощущение и выбор маршрутов движения в жизни.
Мало кто вспомнит свои первые мечты, но, скорее всего они были просты- вкусно отведать маминого молока и беззаботно, счастливо, довольно уснуть у нее на руках. Мечты приходят и остаются, но не все сбываются…
Первая моя, осознанная, мечта, как и у многих мальчишек, рожденных в шестидесятых годах, вот уже стоит и уточнять – 1960-х, это – вырасти и стать космонавтом. Конечно, были и другие, мелкие по масштабу времени и событий, – получить подарок на день рождения и от Деда Мороза на Новый год найти под Елкой, особенно если это – коньки или лыжи, побывать у Бабушки и Деда, налопаться бабушкиных ватрушек и пирогов, что-нибудь поделать с Дедом в мастерской, сходить с ним в лес, покататься на Полкане, попробовать большую конфету «Гулливер» или «Красная шапочка», сверкающую белизной пастилу, наивкуснейший сливочный пломбир, поиграть в футбол и хоккей, в общем всего, всего, всего и много…
Чтобы стать космонавтом, нужно много знать, а значит главные мечты и задачи- научиться читать, писать, считать и все знать.
В этом очень помогал Детский Сад – место очень любимое и, одновременно, ненавистное большинства в дошкольном возрасте. Самое сильное воспоминание о нем, не процесс пребывания и обучения, а запах и вкус сладкого какао, кусок белого батона с кусочком сыра и манная каша с душистым сливочным маслом. Иногда, ностальгируя, пытаюсь организовать себе детсадовский завтрак. Но, увы, уже и батон не тот, и сыр с маслом, если не сам творил, не те. Манка и какао, вроде бы и те же, но сварить по-детсадовски не выходит. Видно знали какую-то сокровенную тайну приготовления детсадовские поварихи. Хотя, и так вкусно, несмотря на то, что все это, по мнению нынешних публичных диетологов, вредно и не полезно взрослому, уже не растущему, организму.
Я не мечтал быть артистом, танцором или певцом, но с удовольствием занимался музыкой, танцами и пел… Особенно любы были народные русские песни и танцы. Воспитатели предрекали мне артистическую стезю, но не случилось. Однако, в жизни пригодилось.
В шесть лет, готовясь быть космонавтом, я в упорном труде освоил Букварь и Азбуку. И даже первая прочитанная самостоятельно книга была связана с полетами- «Гуси-лебеди». С нее же началось увлечение сказками, всех времен и народов, которые читались в запой. С возрастом пришла фантастика. Так же – запоем. Особенно о космосе и космонавтах, полетах к дальним планетам… Захватили разум братья Стругацкие… Лихо пролетел до Луны носовский Незнайка… Понеслось, помчалось…
Одновременно, в чем-то сбылись пророчества воспитателей, я стал творить стихи. Но, это уже была школа.
Все это время в моей голове отчетливо звучала мудрая фраза моего любимого Деда: «Хочешь быть человеком – учись, и учись быть лучше всех!». В период юношеского восприятия и осмысления мироздания я даже пытался оспорить глубокую истину его слова. Чтобы стать человеком, разве достаточно только хорошо учить науки? Глупец! Истина и мудрость скрыты в скупых словах. Хочешь быть человеком – учись быть хорошим человеком, учись хорошо всему, и учись учиться лучше всех!
Самая сокровенная моя мечта – стать таким дедом, каким был мой Дед. Конечно, я не мог его помнить и знать молодым, хотя фотография лихого буденовца чудом сохранилась в семейном архиве. Лихой рубака, прошедший все лиха молодой Советской страны, в том числе все финские войны. Последняя, раздробив ногу пулей «дум-дум», сделала его невоеннообязанным, хромота осталась навсегда. Но, 41-й бедовый, вновь вернул в строй, партизанский. Для меня он всегда в памяти- старый и мудрый. Глава большой русской деревенской семьи, построивший не один дом своими руками для своих дочерей и сыновей, а их было не один-два, как вынуждено и модно в наше время.
А еще я помню горячую, но для меня прохладную руку Мамы на лбу и его сильные руки, носившие четырехлетнего, тяжело больного мальчугана, дышать из дома во двор, а потом растиравшего от шеи до пят медвежьим, барсучьим и собачьим салом. Где он брал его в то время – загадка, он не любил раскрывать свои тайны, для всех до сих пор. Но тогда он еще работал лесником, а друзья у него были – лесники и лесничие.
Бабушка. Я тогда не понимал, почему она плачет и тихо что-то бормочет у печи, стряпая, а ночью стоит на коленях перед иконами в красном углу и что-то у них просит, кланяясь… Теперь знаю. Она, моя родная, просила за меня, молилась о моем выздоровлении и здоровье, о здоровье и благополучии дома, семьи и всех сродников. Многому она научила потом, но еще больше дала, незаметно… Так, когда я стал жить вдалеке от Деда и Бабушки, меня учила и воспитывала их дочь, моя Мама.
Умение ходить, смотреть и жить в лесу, любить лес и его обитателей – это лишь одна из многих наук, которые мне преподал Дед. Как видеть то, что не заметно для глаза, как увидеть и разговаривать с лесовиком (он же, леший), как пить из лесной лужи, разбираться в ягодах и грибах, травах и деревьях, читать следы и разжигать костры, не задирать медведя и кабана, остальные в лесу, даже волки, не страшны в гневе, почему и как нужно любить букашек и других насекомых, птиц и зверье, и почему дворовая собака Полкан – твой лучший друг.
Многому он меня научил. Много дал того, что пригодилось в жизни. Но только сейчас, став дедом, я понял, самое главное и ценное, что дал мне мой Дед- он научил меня быть человеком.
Тогда, много лет, по человеческим меркам, назад он поднял меня, слабого и измученного тяжелой болезнью внука, взяв на руки, поднес к окну засыпанной снегом избы, и показал Чудо. Я увидел золотой солнечный крест в снежной дымке неба и земли. Это – Рождество Христово, – тихо сказал он. Через неделю мне стало легче, через месяц вернулись здоровье и сила.
Внуков и внучек у него было достаточно много, но мне он оказывал особое дедовское внимание, не допуская ко мне, ближе чем надо, Бабушку и Маму. Все по улице и двору носятся, играют, а мы с ним в столярной мастерской строгаем, пилим, сколачиваем… Все во дворе сделанными нами игрушками играют, а мы через поле в лес с ружьем и корзиной… Грибы и ягоды с нас, пироги и варение с Бабушки и Мамы.
Шустрый я стал после выздоровления, не углядел Дед, и ему отдыхать надо. Я быстро освоил, как печь пироги и пряники, варить борщ и кашу, жарить картошку со шкварками, готовить квас и настаивать березовый сок, квасить капусту и мочить яблоки, доить любимицу всей семьи – корову Машку, уважительно Марью Васильевну (Деда то моего Василием звали), кормить хряков, кучу поросят и всякой птичьей живности, биться на саблях с петухом Петькой (надо быть честным, он иногда побеждал), штопать одежду, валять шерсть и прясть нитку, вязать крестиком…
Мой вопрос: «А как это?», – Бабушку, наверное, замучил, но она терпеливо, спасибо ей великое за это, учила этому, что как. Дед быстро раскусил хитрость внука и, в отместку, научил гудронить (пропитывать, натирая гудроном) нитки, ремонтировать валенки и обувь, шить тапки и валять валенки, а не дурака, и, в тайне от Бабушки и Мамы, делать бражку в бидонах в холодных сенях избы, а потом делать деревенские деньги всех времен – самогон.
Гудрон, маленький кусочек, которого хватало на сезон, мы брали в железнодорожной котельной, где Дед подрабатывал истопником. Там я научился подбрасывать уголь, следить за давлением в котлах, варить суп и жарить яичницу на котле, и- слушать байки истопников.
Это было счастливое, не сладкое, но наполненное любовью Мамы, Бабушки и Деда, время – детство. Отец в то время мотался по заработкам, стройкам и шабашкам, поэтому все детское внимание заполнили они – Мама, Бабушка и Дед. Не дедушка, а именно – Дед! Он – и прадеды, и дед, и отец!
Спасибо Вам, мои любимые! Вечная память и Царствие Небесное!
Исполнилась ли моя сокровенная мечта, не мне судить, но, уверен сегодня, что его тайная, сокровенная, мечта исполнилась – вырос я человеком. Стал и дедом. Если хорошим, то внуки не забудут, а Господь простит ошибки по жизни, что называют грехи. Если не достойным, внуки не забудут, но будут ли уважать? Господь же и Дед- спросят, а Господь и взыщет.
Мечты, мечты, мечты… На этапе позднего мальчишества и раннего юношества мечталось о карьере художника, потому я увлекся искусством фотографии и декоративно-прикладным творчеством. Были даже участия в школьных и районного масштаба выставках, но дело не пошло… Затмили учеба, мирская суета- общественная, пионерская и комсомольская работа. Неизменной осталась тяга к стихосложению. Быть поэтом, кстати, не мечтал, как-то само собой сложилось… Да и осталось.
Мечта о профессии космонавта, а для этого нужно хорошо учиться, господствовала и поэтому подавила ряд других, не вписывавшихся в генеральную линию развития. Космонавтом я не стал, хоть и равнялся на земляка – Юрия Гагарина. Но эта мечта породила другую, определившую мою профессиональную стезю на долгие годы.
Я поглощал знания и навыки, выйдя далеко за рамки школьных программ… Школьная библиотека пала быстро, жертвы наметились скоро- районная и городская. Я читал много, взахлеб, полками и стеллажами… В это время, как видится сегодня, произошло отклонение моих интересов от технических, научно-прикладных наук к гуманитарным.
Мне в руки попало полное собрание сочинений сэра Артура Конана Дойла. И если, вначале, я с упоением читал его фантастические и натуралистические произведения, еще мечтая о космосе, но все больше желая (читай – мечтая) быть великим путешественником, как мои выдающиеся земляки -князь Николай Михайлович Пржевальский и Пётр Кузьмич Козлов, то изучив все похождения великого и легендарного сыщика всех времен и народов Шерлока Холмса, я твердо решил – стану сыщиком. И стал, таки… Но для этого тоже надо было учиться, учиться, учиться.
Безусловно, кроме моих мечтаний, на мои выборы дорожек, дорог и путей в жизни, повлияли примеры выдающихся мужей Отчизны и зарубежья. Заочные, нынче модно говорить – виртуальные, мои Учителя. Наряду с живыми, реальными и мудрыми людьми, моими Учителями они помогали мне воплощать и реализовывать мои мечты. Но – это совершенно другая и очень обширная тема.
Позволю остановиться лишь на одной исторической гипотезе. Николай Михайлович Пржевальский является, что имеет свои основания для обсуждения и утверждения, отцом вождя Советской страны и Народа Иосифа Сталина. Два человека – одно лицо. Базируясь на этом, в ходе дискуссий о принадлежности вождя к тому или иному народу или народности, можно гордо утверждать: «Смолянин он, братцы, смолянин!» Вот это, наверное, и есть проявление гордыни.
Смоленская земля богата выдающимися людьми, любовью и верностью России- матушке.
Мечта о карьере сыщика, несмотря на другие мечты, преобразовалась и трансформировалась в избрание профессиональной дороги, на которой, неизменным оставались и остаются любовь к Родине и служение Отчизне.
Хотел бы упомянуть о еще одной мечте, но не моей. Служа, я никогда не стремился к наградам, должностям, званиям. Что должно – приходит само. Здоровый или нездоровый карьеризм – это, точно, не мое. Служил без риска и с риском, за Родину, получал поощрения и взыскания, а если не карьерист, то без последних не обойтись.
Мама мне лично не говорила, но сын то сыщиком стал, а потому известно было о ее сокровенной мечте. Мечтала она о том, чтобы сын стал генералом. Какой солдат не мечтает стать генералом? Нашелся такой, но Мечту Мамы нельзя оставить без воплощения. На прокурорской службе это звание называется – государственный советник юстиции 3 класса, и выше. Мечту моей Мамы я исполнил, и Слава Богу, что успел, до того, как она ушла.
С ее уходом, я, о чем не желал и не мечтал, стал взрослым. Это- когда родителей и старше в Семье уже не стало.
Мечты – это хорошо и важно. Без них невозможно жить. Это наш план построения нашей жизни, состоящий из пунктов – наших мечтаний и мечтаний наших любимых людей, которые мы обязаны выполнить.
Уроки деда
Урок деда первый
В отчем доме, выстроенном самолично нашим Дедом, всегда было уютно, тепло и сытно. Потому как, за это отвечала перед семейством наша Бабушка Настя, наша кормилица-поилица и воспитательница. Как-то соседка, увидев нашу внучатую ораву, позабыв, на время о деревенских сплетнях, с которыми и приходила в гости, сказала: «Ну, Анастасия, ты прям как воспитательница детского сада, не хватает еще яслей!»
В этом она была права, кроме одного… Ясли были тоже. Но, на лето сдавались под присмотр и опеку Бабуле внуки «разношерстные», от мала до велика, способные к самостоятельному прямохождению. Находившиеся в ясельном возрасте, пеленально-молочнососательном, пребывали по месту жительства матерей, дочерей и невесток. В гости были с мамами и из гостей тоже с ними.
Так случилось, что постоянным жителем в доме Деда был только я. Хоть и рожден был в славном городе Смоленске, но весь неосознанный, ранний миропознавательный, малоосознанный и начальносознательный периоды жизни я провел в дедовском родовом гнезде, отчем доме, который совместно с деревенькой нашей, к моменту моего рождения, уже являлся дальней окраиной, чертой старого и не менее славного, чем Смоленск, города Вязьмы.
Все мои двоюродные, троюродные братья и сестры, «внучатый выводок», проживали что в Вязьме, в деревушке- окраине, или приезжавшие в гости из далеких иных земель и городов русских, коих уже всех и не упомнить (Витебск, Богушевск, Рудня, Ленинград, деревеньки Смоленщины, Витебщены, Полесья…), здорово и сытно пребывали в доме Деда и Бабушки, где опекались и воспитывались Бабушкой Анастасией и изучали уроки жизни Деда Василия. Вечная и светлая Деду и Бабушке память!
Так как, я жил у Деда и Бабушки практически постоянно, а не только в летне-оздоровительный период, то и знаний, навыков, уроков приобрел безмерно много, за что им и безмерно благодарен. По прошествии многих лет, когда их не стало, я узнал, отчетливо осознал и понял, что они не только дали мне уроки жизни, но и спасли ее… Но это – отдельная история.
Именно Дед и Бабушка научили меня жить трудом и не унывать, любить Семью и дорожить настоящей дружбой, быть честным и верить в лучшее (за этой фразой, теперь я точно понимаю, скрывали они иной смысл – верить в Бога), не бояться трудностей и не склоняться ни перед ними, ни перед кем, и многому, многому, многому другому, настоящему и стоящему. Кланяться должно Богу, Отцу и Маме, да Деду с Бабушкой, можно тому, кто добрым делом заслужил. А боле- никому. За это и землю родную- стоять и биться, если время настало, насмерть!
Урок Первый. Деда. И по жизни, и по времени.
Набегавшись с утра и до обеда, наигравшись в игры незамысловатые (например, прятки, казаки- разбойники, пятнашки, лапта, обгонялки и т. п. и т.д.), мы с соседскими клятвенно договорились после обеда поиграть «в войну».
На самом деле, это действо являлось разновидностью старейшей игры «Казаки-разбойники», отличалось лишь модернизированными правилами и противоборствующими сторонами, и самодельной экипировкой бойцов. Белые-красные, буденовцы- махновцы, немцы-красноармейцы, фашисты-партизаны, русские-французы… Много позже, это будут «Зарница», «Орленок», еще позже военно-спортивные игры, армейские учения (типа «Белые» – «Синие»). А суть то – одна и та же.
Договор – дело святое. Святее – только клятва. Тем более, жребий выпал быть буденовцами нам. В сенях давно припрятаны деревянные винтовки, буденовские шашки, сделанные, кстати, Дедом и, верх крутизны того времени, – три дедовских, настоящих, буденовки, одна потертая, но настоящая, кавалерийская портупея. Мы готовы уже в бой, в сражение… Но, война войной (это тоже урок Деда, но далеко не первый), а обед по расписанию. Да еще вкусно запахло Бабушкиным борщом, свежим хлебом и пирожками, с яйцом и капустой, ее фирменными котлетами и яичницей на шкварках…
Особенно, Бабушкиным хлебом, замешанным ее руками, по ей только ведомому рецепту, созревшим и испекшимся в доброй русской печи. Даже еще не порезанный на скибки, даривший нам удивительный аромат, от которого и у сытого потекут слюньки.
Заручившись клятвенным договором, мы примчались и дружно уселись за накрытый обеденный стол, во главе которого уже сидел, строго на нас глядя, хозяин дома и Семьи глава, наш Дед.
Дед. Не дедушка, дедуля, дедулька, старик, старый, предок …, как только не придумают по недоразумению в жизни, а именно так, и никак иначе – Дед! Мой Дед! Прошедший огни, воды и медные трубы, лишений больше, чем радостей, горе и боль войн, тяжелый труд восстановления порушенного, тяжелое, но радостное время создания, сохранения и пополнения, роста Семьи. В нем удивительно сочетались щедрая доброта и любовь с жесткой, но не грубой, суровостью и взыскательностью к себе и нам. Только лишь его взгляд, еще не суровый, а с укоризной, мгновенно пресекал наши не нужные шалости и безрассудные действия, так и не ставшие безрассудными, а может и трагическими, поступками. Мудрость ученика нашего прадеда и прапрадеда, прабабушки и прапрабабушки, и самой, нелегкой жизни делала его слова мгновенно понятными и навсегда незабываемыми. Крайне редко, когда наше нарождающееся чувство противоречия формирующейся личности зашкаливало и переходило границы дозволенного спора с авторитетом Деда, или в детской суете мы, на мгновение, забывали о главном, применялись убеждающие меры воздействия, в зависимости от тяжести содеянного: погрозить пальцем и пожурить словом, деревянной ложкой слегка по лбу, легкий подзатыльник рукой, которая одним ударом валила с ног взрослого человека и зверя, обещание поставить в угол и дать армейского ремня. Всегда хватало первого, очень редко доходило до третьего. Последние два, на моей памяти, никогда не применялись, кроме самого обещания.
И поэтому- только Дед! Спасибо, дедушка Василий. Прощай, Дед. Было. Было, когда провожал его в последний путь.
Итак, разгоряченные, возбужденные мы живо набросились на еду, торопливо поглощая бабушкины вкусности, не обращая внимания на разлетающиеся капли, и падающие крошки, что Дедом не приветствовалось (но, это уже другой урок). Старший из нас торопливо вскочил, намереваясь отнести бабушке освобожденные от пищи тарелки. Традиция кушать из единого котла давно уже ушла в прошлое. И тут же получил по лбу ложкой, а мы по подзатыльнику. Что профилактически пресекло наши желания к движению. На столе лежали хлебные крошки и кусочки несъеденных скибок бабушкиного хлеба.
Мы все поняли. Но Дед посчитал необходимым к личному примеру в этот раз добавить нравоучительный монолог. Повторение- мать учения. Мудрость народная. Дед- живая кладезь народной мудрости.
«И куда это, ты, так торопишься? Ладно, я разрешаю от стола без спроса вставать… Хорошо, что бабушке помочь решил… Не помыть, так хоть убрать.
А хлеб кому, ты, оставил? А крошки со стола как прибирать надо? Это кто будет делать? Не зря в народе говорят – хлеб всему голова. В этом брошенном кусочке тобой хлеба, в каждой крошке великий труд, да соленый пот. Ты, значит, бабушку и ее труды не уважаешь? Она с людом нашим зерно в поле сажала, оберегала, убирала. Его молола и муку собирала. Из муки той тесто вчера месила, в печи пекла хлебушек, чтобы сытно и вкусно вы кушали его. Сколько в полях люди труда в каждое зерно вложили? Да не сосчитать, не измерить… И потому, с дорогой скатерти ли, с клеенки, просто с деревянного стола, а в походе с ладошки, над которой хлеб кушают, крошки в рот… Хлеба кусок не бросить, не выбросить… Не доел, в тряпицу заверни, потом доешь… Сам, с другом, или зверя угостишь… Но на землю, на пол… Нельзя! Только зерно в землю можно. А, ты, что удумал? Молоко не допил, хлеб с крошками бросил. Да, видно, не любишь ты народ наш, у которого хлеб дороже всего, для которого хлеб – святое святых. Да, видать, и бабушку со мой не любишь…»
Не договорил еще Дед, а брат, покраснел, крошки и кусок скибки со стола в рот, молоком запил, прожевал: «Прости, Дед». Мы то мигом все повторили.
«Ладно то, вижу, что поправились. И, впредь, никогда не забывайте! Хлеб -всему голова! Хлеб- это наш труд, наше богатство, наша жизнь! Так, куда ж спешите?»
«Да, мы с пацанами в войну играть. Мы сегодня – буденовцы!»
«Ладно то, бегите. Я бабушке помогу прибраться. Возвращайтесь с победой к вечерне!»
Мы галопом к двери в сени. Обернулся я на миг, вижу, что Дед, будто нос почесывая, скрывает от нас довольную улыбку. Бабушка рядом стоит, улыбается, а в глазах слезы грустные. Глянул он на нее озорно-довольно, но вдруг призадумался, глаза посуровели.
Некогда мне тогда было размышлять, что это значит. Своих догонять надо.
В тот день победа была за нами. До ужина успели мы на походных кострах вместе с «неприятелем» испечь картошки и тем отпраздновать победу. А потом и по домам.
Много лет позже, я вдруг, как в старом кинофильме, отчетливо увидел на перемотанной памятью пленке, Деда и Бабушку. И понял, почему их радость, от того, что растем мы правильно, верно, на мгновение сменилась задумчивой грустью.
Мы торопились играть в войну… А, они, пройдя через ад нескольких войн,
познав цену и горечь потерь, смерть родных и близких, горести и страдания, тяжести и лишения военных времен, горькую радость побед, очень хорошо знали, что такое настоящая война. Конечно, Дед был не против, чтобы, играя, мы учились искусству и ремеслу военному, учились воевать. В своих уроках тому тоже научал. Из ружья стрелять, патроны набивать, шашкой махать, ножи метать, пластуном ползать, землянки и окопы рыть, врага обхитрить, обувь тачать, кашу варить, в лесу выживать…
И грусть Бабушки, и суровость взгляда Деда я тоже понял. Радуясь за нас, но познав, что есть настоящая война, они не желали, и, наверное, молились о том, чтобы она, настоящая война, никогда не повстречалась с нами. А если случится, то чтоб были мы к ней готовы. И случилось, и уроки пригодились.
Первый урок, не по счету, а по значению, все мы «буденовцы-махновцы», а кого-то уже и в живых нет, выучили и запомнили на всю жизнь. И всегда ему следовали. Хлеб- сакральное сокровище народа. Хлеб-всему голова.
Урок Первый – потому что главный.
Урок деда второй
Лето. Кто же не любит лето? Может тот, у кого оно всегда. А для нас, деревенской детворы лесного края земель русских, лето – пора особая. Холода зимы, слякоть поздней осени и ранней весны, делают летнюю пору временем желанным, ожидаемым с нетерпением и радостным. Несмотря, на множество забот по дому и хозяйству, определяемых необходимостью помогать Деду и Бабушке, семейным календарным планом обязательных хлопот, оставалась уйма времени для детских забав и проказ.
Исполнив свои детские обязанности и получив взрослое разрешение на полную свободу действий, мы тут же приступали к реализации своих прав. Мчались гурьбой через скрипучую недовольно, хоть и смазанную Дедом калитку, со двора на улицу, где уж ждали такие же, освобожденные по исполнению, деревенские бродяги. Главное- свобода! А чем заняться, что сотворить или натворить, это наш объединенный разум придумывал быстро с учетом долгого светлого, полусветлого или сумеречного, темного, то есть ночного, летнего времени суток.
Это взрослые, что-то не успев до ночи сделать, ворчали, успокаивая себя, о том, что в сутках не двадцать пять часов, вот и не хватает времени на все. Для нас же летом временных рамок не существовало. Мы носились везде, где нас ждали намеченные дела и неожиданные приключения, счастливо часов не наблюдая. Прерывая на время свое «броуновское движение» по доброму зову Бабушек или Мам: «Кушать пора!», или раза с пятого, уже сурового, оклика Дедов или Отцов: «А ну, быстро домой, вечерить, умываться и в люльку! Ночь на дворе! А то, счас ремень достану!» Последний аргумент был сверхубедительным, а потому исполняемым беспрекословно. Мы стайками разлетались по дворам, быстро проходили через летний душ, не забыв побрызгаться в друг друга водой, и усаживались за накрытый бабушкиными и мамиными вкусностями стол. Но… Прыти и силенок на вечерить уже, как правило, не хватало и после кружки сытного молока наши клюющие носы уверенно вели нас в наши люльки. Будет новый день- будет и новая пища.



