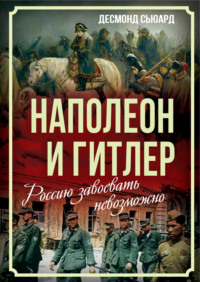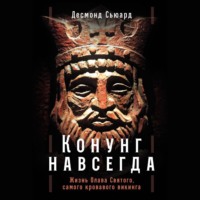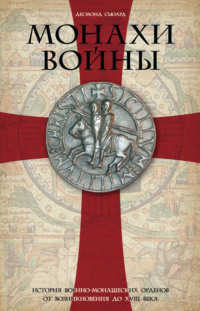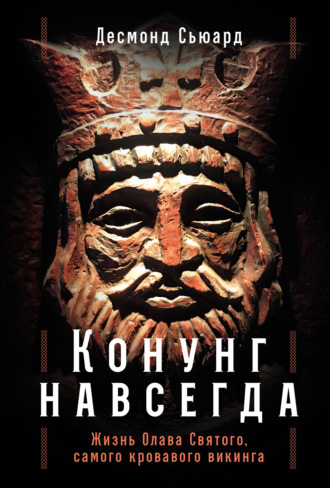
Полная версия
Конунг навсегда: Жизнь Олава Святого, самого кровавого викинга
Иннхус состоятельного вождя, такого как конунг Сигурд Свинья, обычно имел внешнюю веранду, пристроенную к чертогу для пиршеств, а также отдельные гостевые комнаты и бани. За ними располагался утхус («то, что снаружи дома»): амбары, стойла и сараи. Ближайшим строением к дому была конюшня. Примерно так и выглядела столица крошечных владений Сигурда.
Хотя это был период средневекового климатического оптимума, зимы с их завывающими метелями и поземкой должны были казаться людям бесконечными. Нам трудно представить себе холод, сырость, дым и всепроникающий смрад, в которых жили люди того времени, а вдобавок им приходилось постоянно беспокоиться о том, хватит ли припасов на зиму. «Во многих местах их жизнь была непрекращающейся борьбой с голодом, холодом и болезнями»[31]. Если амбары пустели, маленьких детей переставали кормить, а от стариков и больных аккуратно избавлялись с помощью удара по голове – все ради экономии еды.
Как бы глубок ни был снег, иногда викингам приходилось выходить из дома. Они охотились на лосей и оленей, на птицу и горных зайцев, чтобы разбавить свой основной зимний рацион, состоявший из овсяной или ячменной каши, к которой в качестве особого лакомства шел кусок полусгнившего мяса, засоленного или замаринованного в сыворотке, либо хвост сушеной трески. Выходили они на охоту и ради меха, необходимого, чтобы не мерзнуть. Добывались шкуры медведя, волка и рыси, куницы, выдры, лисицы и белки. Вопросом жизни было умение быстро ходить на лыжах и снегоступах, пересекать замерзшие озера и реки на коньках, сделанных из бедренных костей коровы или оленя, правильно пережидать снежные бури. Снорри рассказывает, как один зверолов, попав в метель, переждал ее, ночуя под снегом. Этому навыку выживания и сейчас обучают солдат в норвежской армии.
Мир викингов был в значительной степени аристократическим. На вершине чрезвычайно многослойной родовой структуры находились вожди и их ближайшие родичи, однако при этом они не были всемогущи. Распри между родами из-за убийств или воровства, как и споры из-за прав на землю, должны были выноситься на обсуждение на местном тинге – собрании свободных людей. Человек, признанный виновным в серьезном преступлении, таком как убийство, должен был выплатить компенсацию родственникам жертвы скотом или зерном. Если же он совершал нечто по-настоящему чудовищное, его могли объявить вне закона, что давало любому свободному человеку право убить его.
Более-менее состоятельные свободные люди (бонды) владели хуторами, хотя было много и безземельных, и они становились хускарлами или нанимались батраками. Поскольку это было рабовладельческое общество, в самом его низу находились трэли – рабы, захваченные за морем во время набегов. Они составляли двадцать процентов населения Норвегии. Иначе и быть не могло, ведь викинги, помимо пиратства, торговали людьми и увозили с собой выносливых мужчин и красивых девушек.
Как резюмирует Нил Прайс, попавшие в руки ловцов рабы «буквально за считаные секунды переживали невероятное превращение из человека в собственность»[32]. Бо́льшую часть из них викинги продавали за море, но немало было и тех, кого они привозили с собой на родину, где этим южанам, одетым в лохмотья, в обуви из бересты, предстояло столкнуться с неведомым прежде кошмаром в виде холодных зим. Мужчины-рабы ночевали в конюшнях, а днем выполняли всю черную работу – копали и унавоживали землю, валили деревья, резали торф, пасли овец или свиней. Они были незаменимы для поддержания хозяйства на хуторе, пока хозяин дома со своими людьми находился в походе, но когда раб старел, от него могли просто избавиться как от любой другой скотины, переставшей приносить пользу.
Судьба женщин-рабынь складывалась по-разному. Некрасивых отправляли на изнурительные работы, где заставляли трудиться до тех пор, пока они сами не падали с ног или от них не избавлялись. От восхода до заката им приходилось ткать вадмал, шить паруса, доить скот, сидя по уши в навозе, или – в самом лучшем случае – прислуживать в доме. А красивым выпадала участь хуже смерти – пока они не теряли свою красоту и их не отправляли на работы вместе с менее привлекательными. Тем не менее исследования ДНК показывают, что некоторым улыбалась удача, особенно тем, кого привозили из Ирландии или Шотландии. В Скандинавии эпохи викингов существовала полигамия, и состоятельные мужчины брали себе наложниц, что приводило к нехватке молодых женщин брачного возраста из семей свободных людей, так что нередко для бедного свободнорожденного скандинава единственным способом найти жену было жениться на девушке-рабыне.
Очевидно, что в таком обществе женская доля была самой тяжкой, особенно доля женщины-рабыни, которую могли похоронить (даже заживо), чтобы она служила своему хозяину и в будущей жизни. Известно описание похорон скандинавского вождя, оставленное арабским автором X века Ахмадом ибн Фадланом, который встретился с викингами на Волге. Он рассказывает, как молодую рабыню, которую убедили отправиться в загробный мир вместе с хозяином, несколько дней держали в состоянии опьянения. Затем участники похорон ее ритуально насиловали, а в самом конце кричащую девушку избивали и душили, пока она не умерла (обрядами руководила безобразная старуха, называемая ангелом смерти, которая почти наверняка была ведьмой). Ибн Руста, еще один арабский автор, живший в X веке[33], сообщает, что, когда вождь викингов умирал, его люди возводили погребальный курган и «клали в могилу живой любимую жену покойника». Как – спрашивает историк – очевидцы «мирились с мыслью о том, что внутри этой могилы, в темноте, рядом с разлагающимся трупом супруга медленно задыхается и умирает женщина, которую они лично знали, и что однажды их может постигнуть та же участь?»[34] К счастью, подобные случаи, когда хоронили живых людей, судя по всему, не были частыми.
При этом, однако, жены и дочери людей свободного сословия могли рассчитывать на вполне уважительное отношение. Они пользовались определенными правами, в частности на наследование имущества, и даже известной степенью независимости, поскольку здравый смысл подсказывал, что семья держится именно на них. Свадебная церемония наделяла женщину законным статусом, и она имела право развестись с мужем и вернуть свое приданое, если могла доказать, что он бил ее без причины или не справлялся с супружеским долгом. Изнасилование каралось по закону. Тем не менее жене приходилось мириться с существованием наложниц или с тем, что ее муж спит с любой рабыней, которая ему приглянулась. Сама же она была ограничена только одним мужчиной, и ее могли казнить, если признавали виновной в измене.
Сильная женщина в браке со слабым мужчиной могла добиться для себя права заниматься мужским делом, и некоторые (правда, очень немногие) скандинавки даже создавали торговые предприятия. Словом рингквинна называли незамужнюю женщину, которая после смерти отца или брата в отсутствие других взрослых родственников мужского пола брала на себя обязанности главы семьи со всеми полагающимися по закону правами. В «Старшей Эдде» рассказывается о «щитоносных девах», женщинах-воительницах с волчьими сердцами, таких как юная Хервёр из «Саги о Хейдреке», которая, одевшись как мужчина, отправилась в курган своего отца, чтобы забрать его меч.
Величайшей девой-щитоносицей в скандинавских легендах была Лагерта. Мы знаем о ней только из «Деяний данов» (лат. Gesta Danorum) датского хрониста Саксона Грамматика, писавшего в XII веке. После того как шведы вторглись в Норвегию, ее отправили в публичный дом, но она сбежала и, переодевшись в мужскую одежду, вступила в бой на стороне Рагнара Лодброка, когда он напал на шведов. Сражаясь с распущенными по плечам волосами, она изумила всех своей отвагой, в одиночку напав на врага с тыла и принеся победу в битве. Рагнар взял Лагерту в жены, но потом бросил ее, чтобы жениться на дочери конунга шведов. Лагерта нашла себе нового мужа – одного мелкого конунга, а когда тот оказался недостаточно хорош, заколола его наконечником копья, после чего захватила власть в его крохотном королевстве и стала править сама.
В своей книге, вышедшей в 1991 году, Джудит Йеш отвергла историчность саксоновой Лагерты, назвав ее плодом мужского воображения, и в то время любой уважаемый историк согласился бы с тем, что рассказы о женщинах-воительницах – это полет литературной фантазии[35]. Но проведенный в 2014 году остеологический анализ вождя из захоронения X века в шведской Бирке (на вожде был шлем, он был вооружен мечом, щитом, боевой секирой, луком и копьями, а в могиле его сопровождали жеребец и кобыла) показал, что тело принадлежало женщине. Такой авторитетный археолог, как Нил Прайс, пришел к выводу, что, скорее всего, существовали и другие женщины-вожди, пусть и в качестве исключения[36].
Следует также сказать, что «Старшая Эдда» иногда чутко откликается на проявления женственности, чего нельзя найти больше нигде в западноевропейской литературе того времени. «Слезы ты льешь, убрана золотом… падают слезы на князя кровавые, жгут его грудь, горем насыщены»[37]. В сагах есть много пронзительных любовных историй, как, например, в «Саге о Гуннлауге Змеином Языке», где рассказывается о роковой страсти скальда Гуннлауга к Хельге Красавице.
В «Песни о Риге» – поэме из «Старшей Эдды» – противопоставляются условия жизни представителей разных сословий. У двух одетых в лохмотья трэлей рождается сын. У него безобразное лицо, морщинистые руки и сутулая от постоянного таскания хвороста спина. У их невестки, кривоногой селянки с обгоревшими от работы на солнце руками, к босым подошвам прилипла грязь. Их внуки, носящие подчеркнуто грубые имена, такие как Клегги (Слепень), Кефсир (Блудень) и Фульнир (Вонючка), выполняют всю черную работу в усадьбе. Внучек зовут Кумба (Коротышка), Тётругхюпья (Оборванка) и Амбот (Холопка). Единственная еда, которую пара может предложить гостю, – это миска жидкой похлебки и ломоть хлеба с отрубями.
Жизнь свободного человека гораздо лучше. У него аккуратно подстрижена борода, он одет в чистую рубаху и сидит в своем доме у пылающего очага, выстругивая деталь для ткацкого станка. Его нарядная жена сидит за прялкой, носит красивые пряжки и угощает гостя по-настоящему хорошей едой. Их сыновья, когда подрастут, будут укрощать быков, строить дома и возводить сараи, мастерить повозки, ходить за плугом и пахать землю. Это богатые бонды, зажиточные хозяева хуторов, крепкие и независимые умом.
Рассказ о том, как живет благородный представитель королевского рода, – это описание детства Олава. Вождь, как мы узнаем из «Песни о Риге», владеет просторными палатами, выходящими дверью на юг, с устланным соломой полом. Его прекрасная белокожая жена в платье до пят и голубой льняной рубашке покрывает стол скатертью из тонкого льна и подает белый хлеб, дичь, копченую свинину и жареного цыпленка на серебряных блюдах. Эти яства запиваются вином из серебряных кубков. Когда сын вождя подрастает, он учится стрелять из лука, обращаться с мечом и метать копья, ездить верхом и охотиться с гончими псами. Оружием добывая себе все новые богатства, к концу жизни он будет владеть многими поместьями, щедро награждая своих хускарлов драгоценными камнями, золотыми обручьями и чистокровными жеребцами[38].
Именно таким вождем – величественным внешне и располагающим к себе как личность – был Эрлинг Скьяльгссон из Рогаланда[39], которым многие восхищались как образцовым викингом. Его владения были настолько обширны, что он фактически стал конунгом, даже не принимая этого титула: они простирались от устья Согнского фьорда до мыса Лидандиснес[40]. Каждое лето он отправлялся в морской поход на своем длинном корабле[41] с командой из двухсот человек, а дома у него «и зимой и летом» жили и кормились девяносто хускарлов, и никто из них не испытывал недостатка в выпивке. Тридцати трэлям, работавшим в его усадьбе, позволялось сеять собственный хлеб при условии, что они будут работать вечерами или ночами, а затем продавать урожай, так что трудолюбивые земледельцы уже через три года могли выкупить себя из рабства. На эти деньги Эрлинг покупал новых рабов, которые заменяли прежних, а своих вольноотпущенников он отправлял на ловлю сельди, на свои хутора или на расчистку леса, где они могли строить собственные хижины. «Каждому он чем-нибудь помогал», – говорит Снорри[42].
Однако была у Эрлинга и менее привлекательная сторона. Будучи всего лишь одним из представителей рода, который на протяжении многих лет коллективно правил западной Норвегией, он стал ее единоличным властелином, женившись на сестре конунга Олава Трюггвасона, и своими деспотичными замашками вскоре нажил себе мстительных врагов. Среди них оказалось большинство его родичей во главе с неким Аслаком Фитьяскалли[43].
⁂Юный Олав должен был досконально изучить все, что касалось его славных предков. Один из «потомков Ингви», он принадлежал к старейшему семейству страны – к роду Инглингов, которые вели происхождение от бога Фрейра. Его злополучный отец Харальд Гренландец был праправнуком Харальда Прекрасноволосого, первого конунга единой Норвегии, по линии его сына Бьёрна Морехода, которого родила Харальду Прекрасноволосому наложница Сванхильд.
По материнской линии Олав происходил от Рагнара Лодброка (Мохнатые Штаны) – легендарного героя, который убил гигантского змея, чтобы спасти свою будущую невесту, после чего вступил на завидный жизненный путь, запомнившийся массовыми убийствами, изнасилованиями, грабежами и разгулом. Неудивительно, что закончил свои дни Рагнар во рву, полном змей, куда его бросили несостоявшиеся жертвы его провального набега на Нортумбрию. Однако дерзость, с которой он встретил смерть, и его песня с последней строкой «С улыбкой умру я», которую он пел в ожидании гибели от змеиного яда, служили источником вдохновения для всех истинных викингов.
Мы не знаем, когда именно Олаву пришла мысль, что он преемник конунга Харальда Прекрасноволосого и что норвежское королевство принадлежит ему по праву наследования, но это могло произойти еще в детстве. В Норвегии благодаря устному характеру ее культуры было много людей, которые помнили Харальда. Мы знаем, что одним из них был Сигурд Свинья, и, без сомнения, он постарался внушить своему пасынку, что все потомки великого конунга по мужской линии имеют право на трон.
В «Легендарной саге об Олаве Святом» говорится, что он вырос «статным, величавым, коренастым, с густыми, вьющимися светло-каштановыми волосами и яркими глазами». Норвежец, который примерно в 1190 году написал краткую историю правителей своей страны, подтверждает, что Олав обладал приятной внешностью, и добавляет, что его волосы были рыжими, а борода еще рыжее[44]. Однако Снорри Стурлусон утверждает, что Олав выглядел скорее впечатляюще, нежели поражал красотой, и при этом был очень крепкого телосложения. К тому же уже в ранней юности он был не по годам развит и обладал замечательным красноречием. Его очень любили те, кто хорошо его знал, и они называли его Олав Дигри (digri), что можно перевести как «толстый», хотя в его случае это скорее означало «коренастый». Он не возражал, ведь таким было прозвище Олава Альва Гейрстадира.
Вторя стихам скальда Сигвата Тордарсона, сочиненным в память об Олаве, Снорри сообщает, что у него был очень необычный взгляд – настолько пронзительный, что «страшно было смотреть ему в глаза, когда он гневался». Все знали, что это верный признак человека, рожденного править – «взор, сверкавший, как у змея»[45]. Вне всякого сомнения, он обладал традиционными добродетелями викингов, которые (по определению Тома Шиппи) заключались в «независимости, граничащей с непризнанием любого авторитета, упорном нежелании показывать собственную боль и… принятии неизбежного поражения и гибели как побуждения к действию, а не как повода для уныния»[46].
Глава 2
Харальд Прекрасноволосый и его преемники
У конунга Харальда были скальды, и люди еще помнят их песни, а также песни о всех конунгах, которые потом правили Норвегией. То, что говорится в этих песнях, исполнявшихся перед самими правителями или их сыновьями, мы признаем за вполне достоверные свидетельства.
СНОРРИ СТУРЛУСОН. КРУГ ЗЕМНОЙ, ОК. 1230 Г.Мы склонны забывать об огромной протяженности Норвегии, а между тем ее Атлантическое побережье простирается более чем на 1000 миль. Восточные области – гористые, густо поросшие лесами, с обширными болотами – граничат со Швецией, а на юге, по морю, Норвегия соприкасается с Данией. Северный участок береговой линии находится уже за полярным кругом, включая большую часть региона, который в те времена норвежцы называли Халогаландом[47]. Там, на самом севере, там, где еще могли жить люди, обитали саамы. Говорили, что они «странствуют в одиночестве и не имеют постоянного жилища». Викинги побаивались их из-за колдовства, но это не мешало им запасаться у саамов экзотическими мехами, редкими соколами и моржовой костью.
В 1000 году население Норвегии, вероятно, недотягивало и до 200 000 человек, так как только три процента ее территории было пригодно для земледелия, которое велось примитивными методами того времени. Адам Бременский 70 лет спустя писал, что страна «отличается к тому же совершенной бесплодностью, будучи пригодна исключительно для скотоводства». Тем не менее плодородной почвы хватало на то, чтобы выращивать скудные урожаи ячменя, овса и даже пшеницы. К тому же здесь было изобилие пастбищ для мелких, но выносливых короткохвостых овец, и все это кое-как обеспечивало пропитанием небольшие изолированные родовые группы. Все знали, что даже короткий период летней непогоды может обернуться зимним голодом, который прямо или косвенно приведет к гибели стариков и младенцев. Многие мужчины отправлялись в чужие края, пытались торговать или промышляли грабежами и захватом рабов.
Постепенно происходило сближение крупных родовых групп. Их связывали торговые отношения и общий язык (западный диалект древнескандинавского), хотя география Норвегии осложняла объединение страны. Четыре области с плодородными землями были заселены достаточно плотно. В их число входили Трённелаг (древний Трёндалёг, чьи пашни были одними из лучших в Норвегии), береговая полоса на западе севернее Ставангера (но небольшие плодородные участки имелись только по берегам фьордов), земли на юго-востоке по обе стороны Осло-фьорда и территория вокруг озера Мьёса. В других местах жили крошечные, изолированные общины. Однако все населявшие Норвегию родовые группы, большие и малые, осознавали себя отдельными и независимыми от прочих, что в сочетании с естественными барьерами создавало серьезные препятствия для объединения.
Харальд Прекрасноволосый из долины Сокнардаль[48], который примерно в 870 году стал конунгом Вестфольда (область к западу от Осло-фьорда), был первым человеком, которому удалось объединить Норвегию. В самом начале он был всего лишь одним из нескольких «морских конунгов», чья власть опиралась на хорошо вооруженную дружину (хирд) и большой флот, а также на цепочку прибрежных хуторов и островных баз. Для защиты своих торговых судов от пиратов он заключил союз с ярлом Хаконом из Хладира[49], который правил территорией, прилегавшей к Трандхеймскому фьорду[50]. Соединившись, они прошли со своим объединенным флотом вдоль побережья, побеждая каждого нового соперника одного за другим.
В 880-е годы, после того как Харальд одержал победу в решающей битве при Хаврс-фьорде (немного южнее современного Ставангера), мелкие правители признали его конунгом всей Норвегии и стали платить ему дань (скатт). Однако, за исключением принадлежавших лично ему поместий в Рогаланде на юго-западе страны, где он проводил большую часть года, Харальд был не более чем верховным правителем западного побережья, конунгом только по названию. Он не ввел никакой системной администрации, кроме посаженных им ярлов, которые по его призыву были обязаны присылать ему воинов из подвластных им областей. На севере реальная власть принадлежала могучим ярлам Хладира[51].
Некоторые современные исследователи считают, что никакого Харальда не существовало вовсе, но скальды убедительно свидетельствуют в его пользу. Снорри говорит, что первым его прозвищем было Харальд Лува (Косматый) из-за данного им обета не мыть и не чесать волос, пока он не завладеет всей Норвегией (он поклялся в этом, уговаривая одну девушку стать его наложницей). Десять лет спустя, когда он постригся и причесался, его волосы показались всем такими мягкими и шелковистыми, что он получил прозвище Харфагри – Прекрасноволосый. Торбьерн Хорнклови – скальд, стихи которого демонстрируют хорошее знание жизни при дворе конунга, – написал в его честь «Песнь о Харальде». Это диалог между валькирией и вороном-падальщиком, в котором рассказывается, в частности, о том, как щедро конунг вознаграждал скальдов. Он дарил им – хвастается Торбьерн – красные, отороченные мехом плащи, отделанные серебром мечи, изящно сплетенные кольчуги, шлемы с позолотой и золотые обручья, а также прекрасных рабынь-наложниц из Виндланда[52][53]. Менее поэтичный Снорри сообщает, что «предводителем стражи» Харальд назначил человека по имени Ульв (Волк) Немытый.
Примерно в 930 году, когда Харальд Прекрасноволосый умер, встал вопрос о престолонаследии. Его двадцать сыновей от по меньшей мере девяти женщин схватились друг с другом не на жизнь, а на смерть. В конце концов Эйрик Кровавая Секира (чьим вторым прозвищем было Убийца Братьев, потому что от его руки пали многие из них), которого Прекрасноволосый хотел видеть своим преемником, был изгнан за море, а на престол вступил Хакон, самый младший из братьев. Он вырос в Англии при дворе великого короля Этельстана (которого викинги называли Адальстейном) и получил христианское воспитание.
Обладая способностями к управлению государством, Хакон создал централизованную систему тингов, которая хорошо себя показала. Благодаря ей и снижению взимаемых с ярлов податей Хакон обрел заслуженную популярность. Он был великолепным воином, держал у себя в дружине берсерков и сумел отразить две попытки своих братьев вторгнуться в Норвегию. Однако в крещении Норвегии он не преуспел. Трое английских священников-миссионеров (вероятно, монахи из аббатства Гластонбери, которых он привез с собой на родину) были убиты, их церкви сожжены дотла, а самого его вынудили присутствовать на йольском жертвенном пиру и делать вид, что он ест конину[54].
Возможно, Хакон сумел бы совершить редкий для правителя викингов подвиг – умереть в своей постели от старости, как это удалось Харальду Прекрасноволосому. Но в 961 году, во время последней битвы с братьями, он был смертельно ранен зазубренной стрелой в подмышку. Облачив мертвого конунга в лучшие одежды и доспехи, его похоронили по старому языческому обычаю внутри огромного кургана. При жизни он был «благосклонен ко всем людям», и теперь они называли его «Хакон Добрый» и желали ему радушной встречи в Вальхалле. Его придворный поэт Эйвинд Погубитель Cкальдов (skáldaspillir) сокрушался, что из-за того, что Хакон покинул этот мир, и теперь волк Фенрир, которого страшились даже боги, сможет разорвать свои оковы и пожрет бесчисленное множество людей[55].
Некоторые полагали, что убившую Хакона стрелу направила его датская родственница королева Гуннхильд, вдова Эйрика I Кровавая Секира. Эта невысокая, миниатюрная женщина, отличавшаяся жестоким и злобным нравом не меньше, чем красотой, всегда была готова пустить в ход любые средства, чтобы помочь своим сыновьям. Слухи о том, что Гуннхильд научилась чародейству у саамских колдунов, многим внушали страх перед ней. Ей приписывали способность превращаться в ласточку, чтобы тайно шпионить за своими многочисленными врагами (а у ее пасынка Дага был воробей, умевший предсказывать будущее). Гуннхильд очень подходят строки из «Потерянного рая» Мильтона, где рассказывается о «ночной ведьме»,
…которая, почуяв кровь младенца,в Лапландию к другим несется ведьмамна пляску их, когда усталый месяцво тьме ночной от заклинаний гаснет…[56]Несмотря на заклинания матери, сыновья Эйрика Кровавой Секиры при всей своей жестокости, коварстве и воинственности преуспели лишь в том, что сумели закрепиться на западном побережье, а после того, как в 970 году их главарь Харальд Серая Шкура был убит хладирским ярлом Хаконом Сигурдарсоном, их изгнали окончательно. После этого номинальным властителем Норвегии стал датский конунг Харальд Синезубый, но реальным правителем страны в течение двадцати лет был Хакон, которого, по сообщению одного христианского летописца, прозвали Злым за «необузданную жестокость нрава»[57]. Во время приезда Хакона в Данию Харальд Синезубый заставил его креститься и подобрал священников, которые должны были сопровождать его на обратном пути в Норвегию. Едва отплыв от берега, Хакон бросил их за борт.
Хакон очень боялся, что Гуннхильд может наложить на него заклятие, и по его просьбе Харальд Синезубый заманил ее в Данию предложением руки и сердца, велев передать, что оба они уже в годах и будут прекрасной пожилой парой. Но когда королева-ведьма прибыла, он, следуя обычаю древних данов, приказал утопить ее в болоте[58]. Мумифицированное тело, найденное в 1835 году в одном из болот Ютландии, которое, как все думали, принадлежало Гуннхильд, было помещено в мраморный саркофаг и перезахоронено по всем правилам лютеранского обряда в соборе города Роскилле среди членов датской королевской семьи, как и подобает принцессе Дании. Большой конфуз случился, когда выяснилось, что это тело человека, жившего на тысячу с лишним лет раньше[59].