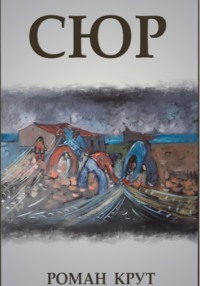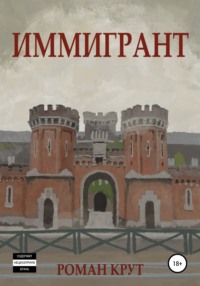Полная версия
Торговая Набережная

Роман Крут
Торговая Набережная
Глава 1
По причине, которую я не могу сейчас вспомнить, я пришел первым, что было для меня не вполне естественно. В комнате никого не было, но я уже слышал приближающиеся шаги в коридоре, а с ними и знакомые тембры голосов. Преподобный отец Патрик Донован, или Пат, как он просил себя называть, вошёл вместе с остальными, кто решил не филонить и прийти на запланированный урок английского языка. Два священника – два монаха, они же два друга, знающие один одного еще со студенческого возраста, организовали в Церкви “Адама и Евы”, расположившейся в самом сердце Дублина – на Торговой Набережной ( “Merchants Quay”), классы английского языка, предназначенные для покинувших свою родину и ищущих пристанище в ирландских просторах: переселенцев, беженцев, иммигрантов и нам подобных… – вообщем для всех тех русскоязычных, кто желал бы обогатиться всенародным, интернациональным языком, а не ирландскими фунтами, которые, на тот час, были на вес золота – выше самого доллара, что сразу мылило глаза и вынуждало бедняг хвататься за любую работу, куда, от нехватки рабочей силы, набирали всех, и даже тех, кто не мог связать двух слов на неродном иностранном языке. Поэтому такие англоязычные классы посещали единицы, все остальные, были заняты работой. “Ну, а Инглиш, – как говорится. – Подождет”, – рассуждали они; я же рассуждал иначе, записавшись в утренний класс, который вел Патрик, решив, что утро я смогу проводить на занятиях, а после, уже как придется, а значит: гулять по музеям и паркам, старинным улочкам и площадям, шопингцентрам и галереям; и, пока государство содержало меня, как ищущего убежища беглеца, – выплачивая пособие, – я решил не насиловать мою сущность, преследуя, в первую очередь, порок наживы: работая на стройке в должности принесиподайки или в каком-то ресторане – посудомойщиком, а продолжать жить так, как удобно мне, так, как я чувствовал, так, как подсказывал мне мой внутренний голос, который, как мне кажется, я продолжаю слушать и по сей день. В последствии мне все же пришлось “испытать на своей шкуре” эти незамысловатые, не требующие особого интеллектуального труда профессии, но быстро ощутив их каторжность, предпочел просто бродить по вечерним, блестящим от еле заметного вечноморосящего дождя, улочкам, мостовым и площадям. В вечерних классах людей собиралось чуть больше. Проводил их, друг и коллега Пата, отец Джон Долтон, типичный ирландец, если вы понимаете значения слова типичный и, могли бы оценить себя самокритично, то есть взглянуть со стороны, откинуть прочь иллюзии и увидеть в зеркале обычную славянскую, или еще какую-то, физиономию, и распознать под черепной коробкой отложившиеся там предрассудки и национально – патриотические идеи и настроения. Отец Джон Долтон или Джон, так как отцом, наш русскоговорящий брат, прибывший сюда со всего советского союза и имевший свои закоренелые нравы и обычаи, называть его не решался, хотя, сам Джон, был бы не против, так как все прихожане, в основном местные Ирлахи (как мы их называли), случайно или по нужде вошедшие в лоно церкви, высокопочтенно, опуская при этом головы, называли их с Патом – Fathers (Отцами), – на язык просится ”русской демократии”, но так как демократии там никогда не было, то сыронизирую и скажу – ирландской, но и здесь она тоже не особо демократична, разве что на словах, как и все у них, —”слова, слова…” Так вот, отец Джон Долтон и Пат, были примерно одного возраста. Но давайте попорядку. Отец Джон Долтон, был высокого роста и худощавого телосложения, с большой головой на тонкой шее и узких плечах, отчего всегда немного сутулился, да и возраст, не делая никому поблажек, возлагал свою тяжелую вековую ношу на его узкие, худые плечи. Ему было около семидесяти лет, – возраст настоящего пенсионера, которому мало кто верит, – возрасту конечно, – пологая, что жизнь только начинается… Но отставим в сторону философский формат, который сам собой будет встревать в повествование и продолжим рассматривать наших героев, благодаря которым, я, и мой тогдашний друг Юрий Рыбников, попали на этот “Проект”. Кожа, как у одного так и у другого, припишем к ним также большую половину местной публики, кожа которых ничем не отличалась от кожи наших пожилых учителей, была рябая, тонкая, светлая, совсем не пригодная к загару, – дряблая и, в силу их возраста, сморщенная, – собирающаяся тонкими складками, как на лице так и на шее; казалось, что если сделать маленький надрез, то ее с легкостью можно будет стянуть с обветренных холодными западными ветрами костей. Бледно-рябое лицо Джона, большую часть времени, выражало серьезность и задумчивость, но прослеживалось в нем еще кое что… нет, не издевательское и насмешливое, – какая то невидимая улыбка исходящая изнутри. Вроде бы серьезен, а вроде бы и нет, вроде бы усмехается, а на лице улыбки нет, но есть в глазах, которые, как нам известно, называют зеркалом, – зеркалом души. Можно было бы конечно назвать это выражение блаженной улыбкой, что вероятно считалось бы правильнее – в церковном понимании, но так как блага у всех одинаковые (хоть и завуалированные), как в церкви так и за ее пределами, не стану ерничать и опущу это выражение. Звучал Джон, старческим хрипловатым фальцетом, частенько вздыхая, посапывая и откашливаясь. Одежда, быть может, из-за того, что я встречал Джона не так часто(он замещал Патрика время от времени), выглядела на нем неизменной: черные туфли, серые брюки и белая рубашка, воротник которой аккуратно выглядывал из под вяло зеленого шерстяного заношенного джемпера, – она всегда казалась чистой и опрятной, хоть и не новой, с легким запахом старого помещения, сырости и сладковато-химического стирального порошка. Светло русые, редкие аккуратно уложенные волосы покрывали его округленное лицо, а на тонком носу сидели очки старого образца, в роговой оправе, с толстыми стеклами, вдвое увеличивающие его карие, проникновенно-умные глаза. Его рябые морщинистые длинные и тонкие пальцы слегка тряслись, особенно, это было заметно, когда он передавал листы с заданиями или наливал себе чай во время короткого перерыва. Он относился к нам, его ученикам, хорошо, и в то же время не любил нашего брата, так, как это делал Пат(от своего большого ирландского сердца, но и этому была причина…), Джон, был более равнодушен к русскоговорящим, да и не только к нам, наверное, ко всем. Он казался менее эмоциональным, более погруженным в самого себя. Временами, Джон рассказывал нам какие-то истории, англо ирландские шутки и анекдоты, в большей степени нами додуманные чем понятые, – над которыми, он сам долго смеялся, вопросительно поглядывая на нас и недоумевая, отчего же мы не смеемся. Джон, помимо родного, прекрасно владел еще несколькими языками: Ирландским, Латынью, Испанским и Итальянским. Со своими учениками Джон, говорил только по английски, что непроизвольно вынуждало большую часть группы посещать уроки проводимые Патом. Ну, а с Патом, как говорится, нам всем повезло! Он был высокого роста, почти под два метра, и, как я уже упомянул, примерно одного возраста с Джоном; крупного, но не тучного телосложения, при виде которого, обычно восклицают и говорят: “Вау! Вот это настоящий Биг Мэн!” У него была большая практически полностью облысевшая голова, и добрые широко открытые голубые глаза, но из-за слабого зрения, он всегда носил тонкие слабозаметные, на его большом лице и широком носу, прозрачные очки в позолоченной оправе. Ладони у Пата были большие и мягкие, как подушки, и, хотя рукопожатие в Ирландии не принято, при встрече, больше при прощании, и тем ни менее, Патрик, всегда это делал – встречая своих учеников и учениц рукопожатием, пожимая руки своей большой, мягкой, тёплой, согретой добрым сердцем, ладонью. Приветственному рукопожатию и знанию русского языка, которым он владел великолепно, пусть и с заметным английским акцентом, – не выговаривая полноценно Р, – а также грамоте и письму, которым могли бы позавидовать многие носители родного языка, его научили в Сибири, точнее в одном из Сибирских Монастырей, где он проживал у своих друзей на протяжении шести лет. Пат, не стесняясь рассказывал, как он коротал там время, прячась от преследования англо-ирландских властей, уличивших его в скрывании, в церкви, где он служил настоятелем, нескольких членов “ИРА” (Ирландской Республиканской Армии). Помимо уроков Пат много рассказывал об Ирландии, ее нравах, традициях и людях, часто высмеивая их устои и вековые предрассудки. Он был справедлив и самокритичен, в отличии от Джона, которого, в противоположность Пату, с легкостью, можно было бы отнести к патриотам, придерживающихся старых монархических, церемониальных английских взглядов, но все же на территории Ирландии и, с ее новыми законами, но уже не английскими, а псевдо-ирландскими, как подшучивал Пат. Так и вся Ирландия, говорил он, была поделена на приверженцев как одной, так и другой стороны, но, в меру своего недавно закончившегося конфликта, длившегося в общей сложности семьсот лет, никто не желал выставлять на общее обозрение свои взгляды: религию, идеологию и предпочтения, прекрасно понимая, что это может привести к очередному нежелательному расколу, которого все боялись, и продолжают боятся по сей день. Весь народ решил плыть в одной лодке, но не с одним(за что боролись), а с двумя, когда то враждующими, а ныне правящими вместе правительственными управленцами. И если Джон, принимал новое правительство и соглашался со всеми новшествами, то Пат, смотрел на все скептически, а где-то и критически; его бесила несправедливость и завуалированное издевательство над своим же народом, – он не мог не нервничать, понимая, что всех обводят вокруг пальца, а его друг, заблуждается, или боится?.. Однажды во время урока, в одном из своих рассказов (Пат, иногда откладывал свой родной язык на задний план и говорил о том, что его беспокоит, о том, чем ему хотелось бы поделиться. Вообще, Пат обожал практиковать свой русский, совершенствуя его с каждым словом), он ненароком промолвился, что “ИРА”, делала все, чтобы избавить страну от оккупантов, и слово оккупанты, он произносил с нескрываемым презрением, подтверждая тем самым, что в Сибири, он прохлаждался именно по этой причине, а не по какой другой. Пат откровенно называл Ирландское Правительство продажным, и открывал нам глаза на то, что ирландия не является независимым государством, а полностью находится под каблуком выдающихся и неповторимых шулеров, шарлатанов и интриганов, диктующие свои законы и навязывающие непоколебимые и неоспоримые рамки правосудия. Он глубоко переживал за свою страну и за народ, утверждая, что этот же народ должен был настоять на своем, и тотально избавиться от влияния соседей, изгнав, в первую очередь, свои предательски-продавшиеся верхушки, увлекшие за собой равнодушные, податливые массы. Так вот, эти шесть лет, по словам Пата, не прошли даром. Проживая в одном из Сибирских Монастырей, он много занимался физической работой, помогая местным монахам и укрепляя при этом свое драгоценное здоровье, а также изучая местные нравы и традиции. Там, он интенсивно учил русский язык, пополнив этим свой незаурядный билингвистический словарь, состоявший из семи вместе взятых языков, включая греческий и латынь, великолепно говоря на них и обладая письмом. Пат, говорил о своих русских друзьях и времени проведенном в Сибирских краях, с придыханием, с душою, которую он, как не старался, не мог обнаружить в своих холодных, северных ирландских собратьях и сосестрах, уповающих на католический инфантилизм идущий вразрез английскому зрелому протестантизму, которым страдала другая часть, вечнозеленого, влажно-ветреного, омываемого со всех сторон, острова. В этом то и чувствовалась огромная разница между ними, – между Патом и Джоном. Один – патриот, готовый на все недостатки закрывать глаза(такие то и нужны любому государству), а другой, здравомыслящий, подвергающий сомнению и осуждающий несправедливость – борец за свободу. И тем ни мение, служили они одному общему веропреступному делу, где их внутренние интересы и убеждения не противоречили священнослужению всемогущей католической церкви. И если Пат, время от времени, шутя, мог сказануть, что-то такое… противоречащее Ветхому Завету, то Джон, сразу же старался пресечь его вольнодумство и свободомыслие, делая при этом озабоченное лицо, при виде которого, Пат замолкал. Но, самое главное, как мне кажется, это то, что за все время учебы и совместного времяпровождения (помимо уроков, группой, мы посещали театры, музеи и музыкальные шоу, билеты на которые, изредка, предоставлял Патрик), ни Патрик ни Джон ни разу не заговорили о религии, – не то чтобы о религии, о боге, разговор мог зайти крайне редко, и то, с подачи нашего брата. Они же никогда эту тему первые не поднимали. Пат говорил, что люди сами, без постороннего вмешательства, должны приходить, в своем сознании, прежде всего, к чему-то или кому-то… Он не был сторонником слепой веры, от этого, у него возникали кое какие вопросы, которые он, не скрывая, иногда озвучивал в классе: “Почему?! – восклицал Пат. – Столько много в мире зла, а Он! – негодовал он направляя зрачки в потолок. – Ничего не предпринимает?” Или “Не могу понять, – сомневался Пат, – Человек, с добрым сердцем, которому еще жить да жить!, который мог бы сделать еще массу добра, умирает совсем молодой, а остальные, не самые лучшие, живут и живут?..” И, если Пату, это давалось легко, в плане не навязывания, то Джону, приходилось, себя сдерживать. Он любил говорить на эту тему; и был готов, в любое время суток, даже во сне, говорить о религии. У русскоязычных групп, занимающихся у Пата и Джона, мнения разделялись: одни говорили, что русская речь их только отвлекает и мешает сосредоточиться, выбирая при этом Джона, другие, утверждали обратное, говоря, что русскоговорящий учитель, досконально помогает разобраться в грамматике, – разъясняя на неродном для себя языке все нюансы… Пат, временами походил на большого, радостного и очень доброго ребенка желающего резвиться и веселиться позабыв про все потусторонние устои и вероучения, в которых, благодаря своей огромной практике и опыту, он нескрываемо сомневался, но в то же время понимал, что жизнь уже прожита – осталось не долго, и раз посвятил этому всю свою осознанную, или не очень, жизнь, уйдя в монастырь в возрасте восемнадцати лет, пути назад уже нет, – нужно довести дело до конца. Забегая на перед, хочу сказать, что конец, вернее последние лет десять, шесть из которых Пат провел в Ватикане, служа бок о бок с Папой Римским, пролетели стремительно, и в преддверии кончины, чувствуя ее скорое приближение, он вернулся в свою любимую Ирландию, где отказавшись от сана священнослужителя, оставшиеся четыре года, прожил свободным, счастливым, как он успел выразиться перед самой смертью, независимым человеком. Мы, а точнее группа русскоязычных, обучающаяся у Пата и Джона, еще при их жизни, успели организовать и проспонсировать им поездку в Санкт Петербург, после которой у них была масса разных впечатлений: Джон, убедился в хамстве и дикости русского народа, а Пат, находил это забавным, и ощущал исходящее от них дружелюбие и душевность – скрываемые под масками хамства и дикости.
Глава 2
Во время уроков мы все сидели за одним большим круглым столом. Пат, всегда садился между нами, раздвигая себе место своей крупной, медвежьей фигурой. В утренней группе, человек было немного, около десяти, а вот в вечерней, бывало и такое, что одного стола было недостаточно, так как собиралось не менее двадцати человек, а то и больше. В таких случаях, Пат и Джон, проводили занятия вместе, деля класс пополам, стараясь не мешать друг другу. Изредка, от безделия, я посещал и вечерние классы тоже. Джон, проводил занятия как-то поверхностно, без энтузиазма, по местному-сухо, как здесь и принято; Пат же, старался за выделенный один час, выложиться по полной: поработать индивидуально с каждым учеником, разложить все по полочкам и досконально объяснить заданную тему. Вся наша группа любила Пата, – любила так, как дети любят свою первую, невероятно добрую и сердечную воспитательницу, способную утешить, успокоить, и вселить веру и надежду в то, что родители вот вот придут, но сначала, будет невероятно вкусный и полезный обед, и очень важный для здоровья – сонный час. Каждый раз, перед началом занятий, я замечал, как люди (их было несколько человек) преклонного возраста, – которые много причитают и обычно всем недовольны, – входя в класс и пожимая теплую большую и мягкую ладонь Пата, смотрят на него; как горят добром и любовью их глаза. И подобное происходило со всеми. Пат, напоминал большое теплое июньское солнце, с лучезарной улыбкой, редко сходящей с его лица. Его добродушный взгляд был наполнен позитивом, пониманием и сочувствием. Порой, когда он пристально смотрел в глаза, казалось, что ему видны, не только укромные, недоступные для общего обозрения уголки с предубеждениями, но каждый хрящ и орган, каждый нерв, а с ним, все скрываемые желания, которые он, своим пристальным взглядом, просвечивал насквозь, как рентгеновским лучом. Я помню, во время урока, Пат, сказал однажды: “Мне кажется что я знаю, что каждый из вас желает больше всего…” И не дав ответить, продолжил: “Давайте я сам за вас отвечу.” Он посмотрел на пару уже не молодых людей, и сказал, что они вероятно мечтают купить здесь дом и встретить старость, – они с изумлением закивали в ответ, подтвердив, что это и есть их самая заветная мечта. Молодому парню, сидевшему возле меня, Пат сказал, что в его намерения входит как можно больше заработать и, как можно быстрее уехать отсюда. Парень удивился, но не стал возражать. Еще одной паре сказал, что они мечтают о ребенке, который у них обязательно скоро появится, – так оно и произошло, ровно через год, она забеременела. И, когда дело дошло до меня, он посмотрел внимательно мне в глаза, широко улыбнулся и сказал: “Ну, а тебе друг мой, пока еще ничего не надо. Вернее ты сам еще не знаешь чего ты хочешь.” Я улыбнулся и вполне согласился с его предсказанием. Но после того, как все посмеялись, он добавил и сказал, чтобы я ни за что не переживал, – все в моей жизни будет приходить в нужное время, и, что он поможет, если нужна будет его помощь. И он оказался прав, – прав в том, что все в моей жизни, всегда, приходило в нужное время. А вот его помощь не понадобилась. Да и не было его рядом, он трудился в это время на благо католицизма, в Ватикане. Сказать, что Пат одевался как то особенно или отличался разнообразием в одежде, в отличее от Джона, я не могу. На ногах у него были разношенные черные туфли, на которых, как он признавался, уже не раз ему приходилось менять каблук; серые брюки, иногда черные, из кармана которых всегда свисала крупная серебристая цепочка с увесистой связкой ключей. Рубашек, как я заметил, у него было несколько, и все разного цвета, как и джемперов. Но однажды, это было всего лишь один раз, когда на обед, который мы готовили нашей поварской группой, Пат явился в средневековой темно коричневой, подпоясанной веревкой, Францисканской робе с капюшоном – в ней, он выглядел иначе, – совсем не походил сам на себя; она его как-то сковывала: лицо, всегда светящееся в улыбке, изображало какую-то неуверенность и обремененность, а глаза, казались невероятно грустными. И да, все обитатели Адама и Евы были Францисканцы. Видеть Джона в этом одеянии мне ни разу не приходилось. И, как я узнал позже, церковный сан Джона, позволял ему не одевать, при надобности, эту средневековую робу. Огромные помещения Монастыря отапливались слабо, как и все Церковные учреждения в Ирландии, поэтому отовсюду веяло стальной пустотой, сыростью и плесенью. Все время хотелось укутаться, принять горячий душ или забраться в сауну на несколько часов. Многие Ирлахи и Пат в том числе, этой прохлады и сырости уже не ощущали, раздеваясь до футболок, при распахнутых окнах, и жалуясь на духоту, хотя, всех остальных в это время трясло от озноба. Комната для занятий находилась на заднем дворе, в пристройке, куда Пат, по настоятельным просьбам замерзающих, принес электрический радиатор. Комната была просторной и пустой, не считая нескольких столов и собранных в столбик стульев. Если у Пата находилось свободное время, перед началом урока, он заваривал в термосе чай и выкладывал на стол пачку бисквитов. Говорил Пат громким глубоким басом, чем то напоминающем тромбон.
– Кто желает выучиться на повара? – прогудел Пат, в тот момент, когда вся группа собралась в полном составе, в предвкушении новой темы. – Будете поварами! – усмехнулся он. Никто не ожидал такого вопроса, – все как то замялись, – несколько секунд просидев в тишине.
– Расскажите подробнее про эти курсы, пожалуйста! – выкрикнул кто-то из учеников, напомнив тем самым знаменитую фразу Леонида Гайдая. Патрик, отложил в сторону свою толстую тетрадь и посмотрев из под очков на всех присутствующих, которых было человек десять на тот момент, с присущей ему доброй улыбкой, сказал:
– Эти поварские курсы спонсируются государством… – и выдержав недолгую паузу, с улыбкой, добавил. – В стране нехватка поваров.
– Как насчет социальных выплат? – спросил парень сидевший рядом со мной, на вид, не старше двадцати четырех лет.
– Не волнуйся Юрий, – доброжелательно произнес Пат, – ваши выплаты останутся.
– А сколько эти курсы будут длиться? – спросила уже не молодая тучная женщина, сидевшая напротив меня, чем-то напоминающая строгую училку. – Шесть месяцев. С понедельника по пятницу. – ответил Пат. – С 9-ти утра и до 16.00. По окончании вы получите поварской диплом и скорее всего, наш шеф повар предложит вам рабочие места, если вы конечно захотите работать? – сыронизировал Пат. – Если не здесь, то может быть в другом месте?.. С дипломом, это не сложно будет сделать. – сказал он и внимательно окинул взглядом всех по кругу. – Как насчет тебя?! – неожиданно обратился он ко мне. – Хочешь быть поваром? – усмехаясь пробасил Пат. – Хочу. – не задумываясь ответил я. Не то, чтобы я мечтал быть поваром, просто хотелось получить хоть какой-то легальный документ. – За английский только переживаю. Боюсь, что совсем ничего не буду понимать. – Пат, дружески похлопал меня по плечу и сказал, чтобы я не за что не переживал, что в этом деле главное внимательно смотреть на шеф повара, – на то, что он показывает, – остальное, смеялся Пат, формальности. Я удовлетворительно – соглашающе кивнул.
– Может еще кто-то хочет? Группа уже практически набрана, осталось несколько свободных мест. Юрий! а ты?.. что ты скажешь? – Юрий Рыбников задумался…
– Так сразу не могу сказать… – с серьезным видом проговорил он. – Нужно подумать… взвесить… – Пат широко улыбнулся.
– Хорошо, Юрий, подумай, взвесь и обязательно дай мне знать на следующем занятии?
– Договорились. – согласился Юрий Рыбников.
– Может быть твоя супруга тоже хочет научиться готовить? – иронично спросил Пат и посмотрел на сидевшую рядом с Юрием Рыбниковым, невысокую статную женщину, с пышной полуоткрытой грудью и округлыми симметричными формами, – ходившую на занятия через раз, всегда надевая длинные обтягивающие платья, пиджаки или блузки.
– Не-еет, – протянул Юрий с ухмылкой, – ей есть чем дома заниматься: дочка… уроки… уборка… много дел… Тем более, что она прекрасно готовит! Правда Лен?.. – он по свойски толкнул ее плечом. Елена, с виду скромная женщина лет тридцати шести, с длинными русыми волосами собранными в большой клубок, ничего не ответила, согласившись с мужем. После занятий, распрощавшись со всеми, я довольный побрел домой. По дороге я шел и думал, почему люди не хотят пользоваться шансом? Ведь абсолютно все, кто посещает эти классы, находятся на таком же положении как и я: все получают пособие и ждут разрешения на работу, или притворяются что ждут, чтобы потом, после получения разрешения, уклоняться от работы и, продолжая получать пособие, работать нелегально? Мужчины, в большинстве своем, разнорабочими на стройке и в ресторанах у посудомойки, а также на доставке фаст фуд; женщины, многие с высшим образованием, простыми уборщицами или официантками.Такие вот перспективы создавали себе беженцы и переселенцы на то время. Мало кто, на самом деле, спешил на официальную работу (мечтая о резиденции только для того, чтобы свободно путешествовать), не считая нескольких дураков, к которым можно было причислить и меня. Ведь поварской диплом считался маленькой, но легализацией, по крайне мере шагом в этом направлении; а если еще предоставят работу в конце учебы, думал я, это же вообще красота! Так как ждать легальных документов можно было годами, а тут, удача сама шла в руки. Я был на девятом небе от счастья.
Глава 3
На следующем занятии, во время чаепития, стоя на заднем дворе, я поинтересовался у Юрия, что же он решил по поводу поварских курсов. Он достал из кармана, уже не нового, весенне-летнего пиджака, мятую сигарету, выпрямил ее, сдул высыпавшийся и прилипший к ней табак, прикурил, сделал глубокую затяжку и насмешливо сказал:
– Мы ведь все, ну, или почти все, работаем нелегально… Правильно?! – он выдержал недолгую паузу. – На рабочих местах, за неимением нужных документов… – Юрий замолчал, делая еще несколько затяжек, – мы ведь того… низшая раса, как они себе вообразили… сволота! – он сплюнул с пренебрежением, слегка скривив лицо. – Так вот, платят нам, как тебе известно, фигню!, поэтому никто не хочет расставаться с этими крохами выделяемые нам государством или ООН, или еще кем-то… Хорошо, что они и крышу над головой оплачивают, без нее ноги бы здесь нашей не было! Все прутся сюда только из-за социала… Или я не прав?! – спросил он и посмотрел на меня так, как смотрят на младшего брата или сестру, слегка заискивающе. Для своих двадцати девяти лет, выглядел Юрий Рыбников чрезвычайно моложаво. Те, семь лет разницы между нами абсолютно не замечались. Во первых, потому, что он выглядел моложе, года на двадцать четыре, не больше, я же, в меру своего роста и крепкого телосложения, казался чуть старше, а во вторых, мы все еще считались людьми одного и того же рабовладельческого коммунистического строя, можно было бы даже сказать одного и того же поколения: одно и то же воспитание, одно и то же образование, одни и те же дворы и улицы, а самое главное одна и та же непоколебимая и нерушимая советская система, бессознательно всунутая нам глубоко внутрь, и осевшая там налетом, как на дне стакана, который нужно тщательно отмывать, желательно с хлоркой. Юрий, был чуть выше среднего роста, с черными как смоль слегка вьющимися волосами; под строгими бровями, выразительно смотрели миндалевидные, с татарским акцентом, карие глаза, поблескивающие слабозаметной хитрецой; с легкой горбинкой заостренный нос говорил о его самоуверенности, а белые и ровные зубы, указывали на крепкое здоровье. Звучал Юрий типичным мужским звонким баритоном; имел среднее телосложение, всегда, по армейски, держа осанку, хотя и не служил. Для того, чтобы казаться постарше и не сильно отличаться по возрасту от своей супруги, которая не выглядела моложе своих тридцати шести, Юрий, носил узкую бороду без усов, и соответствующий стиль одежды: брюки, рубашки, пиджаки и туфли, но не костюмы, все в разнобой. Помимо напускной серьезности, большую часть времени присутствующей на его лице, жила в нем еще какая-то задоринка, которую он намеренно старался сдерживать – не давая ей взять над собой верх. Я помню, время от времени, его супруга говорила: “Юра! Будь ты в конце концов серьезен! Нельзя так легкомысленно относиться к вещам!..” После этих слов лицо его менялось, на него падала маску ответственности и деловитости. И лишь изредка, позволяя себе расслабиться, потаенная задоринка вырывалась наружу, и он, скидывая маску, с двадцатидевятилетнего “старца”, превращался в шестнадцатилетнего мальчишку: веселого и радостного, открытого, доброго и непренужденного, – забывшего обо всей чепухе усложняющей и отягощающей его внутренний мир, – о мешке предрассудков, который, он, самолично, тащил на своих плечах не желая от него избавляться, – обо всех надуманных тяготах и сложностях жизни, но опомнившись, вернее взяв себя в руки, снова становился искусственно серьезным и надуманно деловитым. Ему нравилось ощущать себя закоренелым, “непобедимым”, непоколебимым советским человеком, с которым, время от времени, мне приходилось бороться, чтобы вернуть шестнадцатилетнего живого мальчишку на его законное место. Я задумался на короткое время, но Юрий меня одернул: