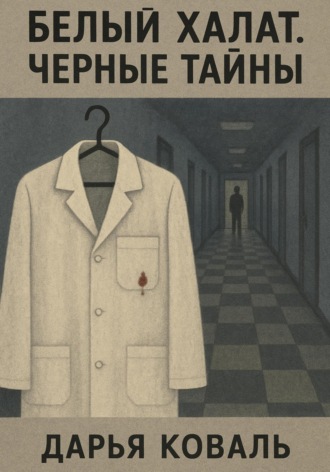
Полная версия
Белый халат. Черные тайны
Анна замерла, прислушиваясь. В коридоре было тихо. Ее руки действовали сами. Она взяла блокнот. Она знала, что нарушает все свои правила, что это неправильно, подло. Но она также знала, что в этом блокноте может быть ответ. Или хотя бы подсказка. Она быстро сунула его под халат, за пояс, и закрыла ящик. Ее сердце колотилось так громко, что, казалось, его стук был слышен по всему институту.
Она закончила работу, переоделась, сдала ключи. Выходя на улицу, она крепко прижимала к себе сумку, в которой под ворохом ее вещей лежал чужой дневник, чужая тайна. Дождь прекратился, но небо было по-прежнему тяжелым и серым. Воздух был холодным и влажным. Она шла к остановке, и каждый шаг давался ей с трудом. Она не была следователем. Она была простой женщиной, прожившей долгую и нелегкую жизнь. Но в этой жизни всегда было место правде. А то, с чем она столкнулась, было ее уродливым отрицанием. Белые халаты лгали, и кто-то должен был заставить их сказать правду. И, кажется, этим кем-то суждено было стать ей, Анне Кузьминичне Трофимовой, простой уборщице с ведром и шваброй. Она села в троллейбус, прижалась лбом к холодному стеклу. За окном проплывали огни вечерней Москвы, но она их не видела. Она думала о маленьком синем блокноте, который жег ее через сумку. Она боялась того, что может в нем прочитать. Но еще больше она боялась не узнать.
Лабораторный блок №4
Ночь на среду была глухой и чернильной. Дождь, начавшийся еще вечером, не прекращался ни на минуту, барабаня по жестяному подоконнику навязчивую, тоскливую дробь. Анна Кузьминична сидела на кухне за старым клеенчатым столом, подперев голову рукой. Единственная тусклая лампочка под самодельным абажуром выхватывала из полумрака ее осунувшееся лицо, сложенные на коленях рабочие руки и лежавший перед ней маленький синий блокнот. Дневник Ирины Власовой. Он лежал на столе, как неразорвавшаяся граната, маленький и смертельно опасный. Анна смотрела на него уже битый час, не решаясь открыть. Всю дорогу домой, в дребезжащем, пахнущем мокрой шерстью троллейбусе, он жег ей бок через тонкое пальто и старенькую кофту. Чужая жизнь, чужие тайны, запечатанные в картонную обложку. Всю свою жизнь Анна Кузьминична придерживалась простых, но незыблемых правил: не брать чужого, не лезть в чужую душу, не подслушивать и не подсматривать. Это было основой ее человеческого достоинства, тем, что позволяло ей, простой уборщице, ходить с прямой спиной. И вот сейчас она сама нарушила главное из своих правил. Украла. Да, именно так. Не взяла, не позаимствовала, а украла. Но чем дольше она смотрела на блокнот, тем яснее понимала, что ее собственное душевное спокойствие, ее незыблемые правила сейчас значат куда меньше, чем то, что могло быть написано на этих страницах. Там, в стенах института, умер человек. Хороший человек. И его смерть обставили ложью, как покойника дешевыми искусственными цветами. А эта девочка, Ирина, она боится. Она что-то знает. И этот страх может ее погубить. Анна вздохнула, тяжело, протяжно, как делают только старики, и решительно протянула руку. Пальцы коснулись гладкой, чуть прохладной обложки. Она открыла дневник. Первые страницы были исписаны аккуратным, почти ученическим почерком, с круглыми буквами и старательными завитками. Записи были девичьими, наивными. О новом платье, о фильме с Бельмондо в кинотеатре «Россия», о ссоре с подругой. Анна быстро пролистывала их, чувствуя себя неловко, будто подглядывала в замочную скважину. Потом в записях стал все чаще появляться институт. «Сегодня Олег Петрович похвалил мой отчет. Сказал, что у меня аналитический склад ума. Я чуть не растаяла. Он такой… настоящий. Умный, добрый и совсем не смотрит на всех свысока, как Галина Ивановна. Она как будто не из плоти и крови, а из нержавеющей стали. Железная леди». Анна хмыкнула. Точное сравнение. Дальше записи становились все более тревожными. Имя Вершинина мелькало почти на каждой странице, но уже в другом контексте. «О.П. сегодня снова спорил с Г.И. в лаборантской. Дверь была приоткрыта. Я слышала обрывки фраз. Что-то про «Изделие-7». Г.И. кричала, что он рискует всем, что это безумие. А он спокойно так отвечал, что правда важнее. Я не поняла, о чем они, но потом Г.И. вышла злая, как фурия. Посмотрела на меня так, что у меня все внутри похолодело. Головин потом шепнул, чтобы я держалась от Вершинина подальше, что у него будут большие неприятности». Анна перевернула страницу. Пальцы ее слегка дрожали. «Изделие-7». Вот оно. То самое слово, что она услышала в соседней лаборатории. «Вчера О.П. показал мне часть своих расчетов. Сказал: «Ты, Ириша, девочка толковая, поймешь». Я, конечно, ничего не поняла. Слишком сложно. Но я видела, как у него горели глаза. Он говорил, что это прорыв, что это может изменить все. А потом добавил очень тихо: «Или погубить всех нас». Мне стало страшно. Он попросил никому не говорить об этом разговоре. Особенно Соколовой и директору. Сказал, что они видят в этом только… я не запомнила слово… что-то вроде выгоды и карьеры, а он видит ответственность». Анна откинулась на спинку стула. Картина прояснялась. Вершинин сделал какое-то важное открытие. И это открытие было опасно. Или люди, которые хотели им завладеть, были опасны. Она листала дальше. Почерк становился все более неровным, торопливым. Буквы плясали. «Директор вызывал О.П. к себе. Тот вернулся мрачнее тучи. Сказал мне только одно: «Они хотят все забрать себе. И переписать». Вечером видела, как Головин копался в его столе. Я спросила, что он делает. Он затрясся весь, пролепетал, что Г.И. попросила найти какой-то старый протокол. Врет. Я видела, что он смотрел на папку с надписью «Изделие-7». Анна дошла до последних записей. Тех, что были сделаны, видимо, незадолго до трагедии. И тут она поняла, почему Ирина вырвала страницы. Дальше шли пустые листы, а потом последняя запись, сделанная уже в понедельник, после всего. Почерк был таким, будто его выцарапывали гвоздем. Крупные, корявые буквы расползались по странице. «Его нет. Они убили его. Я знаю. Я видела. В субботу. Я вернулась за перчатками, забыла. Дверь в лабораторию была приоткрыта. Я услышала крик. Голос Олега Петровича. А потом глухой удар. Я заглянула в щель. Он лежал на полу у своего стола. А над ним стояли она и Головин. Соколова. Она держала в руке тяжелый металлический штатив. А на полу растекалась кровь. Я зажала рот рукой и убежала. Я ничего не видела. Я ничего не знаю. Они заставили меня молчать. Соколова сказала, что если я пикну, со мной случится то же самое, что и с ним. Только это будет выглядеть еще более несчастным случаем. Она сказала, что директор все знает и все одобрил. Головин вчера переписал журнал. Он плакал, когда делал это. А я… я трусиха. Я боюсь. Господи, что мне делать?» Анна закрыла дневник. Руки ее были холодны как лед. Теперь она знала все. Не догадывалась, не предполагала, а знала. Это было не просто сокрытие улик. Это было убийство. Хладнокровное, жестокое. И в нем были замешаны все: властная Соколова, трусливый Головин и даже сам директор Мещеряков. А Ирина была свидетелем. Запуганным, сломленным свидетелем. И ее звонок из телефонной будки теперь обретал страшный смысл. Она либо просила о помощи, либо ее шантажировали. Анна осторожно положила дневник в сумку, под стопку чистого белья, которое брала с собой на работу. Она не спала до самого утра, сидя на табуретке и глядя в темное, плачущее окно. Теперь на ней лежала не просто тайна, а чужая жизнь. И груз этот был почти невыносим. Утро среды было точной копией утра вторника – серым, сырым и безнадежным. Москва куталась в мокрый туман, и огни троллейбусов казались расплывчатыми желтыми пятнами. Внутри вагона было тепло и душно, пахло мокрой одеждой и сном. Анна стояла у окна, но не видела ни домов, ни людей. Перед ее глазами стояла картина, нарисованная корявыми буквами в синем блокноте: Вершинин на полу, Соколова со штативом в руке, лужа крови. Простые слова превратились в живое, ужасающее видение. Теперь все люди в институте делились для нее на тех, кто знал, и тех, кто не знал. А еще на тех, кто лгал. И последних было большинство. На проходной ее встретил Павел Андреевич. Он был не в духе, ворчал на погоду и на сквозняки. – Что-то начальство сегодня с ранья всполошилось, – прошамкал он, когда Анна расписывалась в журнале. – Машина черная подъезжала, «Волга». Вышел один, в костюме сером, солидный такой. Прямиком к директору. Даже не записался. Видать, шишка какая-то. – Из министерства, поди, – ровным голосом предположила Анна, хотя внутри все сжалось. Лаптев Н.В. Оттиск на блокноте секретаря. Министерство. Все сходилось. Система начала действовать, зачищать следы, укреплять оборону. Анна переоделась в своей каморке. Синий рабочий халат был ее броней, ее маскировкой. Ведро и швабра – ее оружием. Она поднялась на второй этаж. Сегодня она не будет медлить. Ей нужно было снова попасть в лабораторию номер четыре. Нужно было посмотреть в глаза этим людям, зная то, что она знала. Коридоры были необычно пусты. Двери лабораторий плотно закрыты. Из-за двери кабинета Соколовой доносились приглушенные голоса. Анна сделала вид, что моет пол у соседней двери, и прислушалась. Говорил Мещеряков. Его голос был напряженным, раздраженным. – …полный контроль, Галина Ивановна! Никакой самодеятельности! Человек из ведомства будет говорить с вами. Вы должны слово в слово повторить официальную версию. Головин проинструктирован? – Да, Сергей Павлович. Но он на грани срыва. Боюсь, как бы не наделал глупостей. – Это ваши проблемы! Возьмите его в ежовые рукавицы. И Власова! Где ее отчеты по последним пробам? Она должна работать, а не в окно смотреть. Нам нужно показать деятельность, полную загрузку. Понимаете? Чтобы ни у кого не возникло даже тени сомнения. Анна покатила свое ведро дальше. Она толкнула дверь в лабораторию номер четыре. Внутри царила ледяная, напряженная тишина. Головин сидел у хроматографа и делал вид, что сверяет показания, но его руки так дрожали, что распечатка в них ходила ходуном. Ирина сидела к ней спиной, низко склонившись над столом. Ее плечи вздрагивали. Соколовой не было, видимо, она ушла к директору. Анна начала свою работу. Движения ее были размеренными, механическими. Мыть пол. Вытирать пыль. Выносить мусор. Но ее глаза и уши работали с удесятеренной силой. Она была не уборщицей, а разведчиком на вражеской территории. Она мыла пол вокруг стола Виктора Головина. Он съежился, когда она приблизилась, словно ее швабра могла его ударить. Он пах кислым страхом и дешевым одеколоном, которым пытался этот страх заглушить. Анна посмотрела на его руки. На костяшках пальцев правой руки виднелись свежие ссадины, почти зажившие. Такие бывают, если сильно ударить кулаком о что-то твердое. Например, о стену. Или в лицо человеку. Анна перевела взгляд к столу Ирины. Девушка не двигалась. Анна подошла ближе, чтобы забрать мусорную корзину. – Дочка, ты бы отдохнула, – тихо сказала она. Ирина вздрогнула и медленно подняла голову. Ее лицо было белым, как лабораторный халат, а под глазами залегли такие темные круги, что она казалась на десять лет старше. Но страшнее всего были ее глаза. В них не было слез, не было страха. В них была пустота. Мертвая, выжженная пустота. Она посмотрела на Анну, и в ее взгляде не было узнавания. Она смотрела сквозь нее. В этот момент дверь открылась, и вошла Соколова. Она бросила на Анну быстрый, холодный взгляд и прошла к своему столу. – Власова, что вы сидите? – резко сказала она. – Несите реактивы. Ирина никак не отреагировала. Она продолжала смотреть в одну точку невидящими глазами. – Власова! Вы меня слышите? – голос Соколовой зазвенел от раздражения. Она подошла к Ирине и грубо тряхнула ее за плечо. – Хватит разыгрывать трагедию! На работу! Ирина медленно повернула голову к ней. Ее губы зашевелились. – Вы… вы его убили, – прошептала она так тихо, что расслышать это могла только Анна, стоявшая рядом. Но Соколова расслышала. Ее лицо на мгновение исказилось от ярости и страха. Она схватила Ирину за руку и потащила из-за стола. – Пойдем, поговорим, – процедила она сквозь зубы. – Тебе нужен отдых. Головин, продолжайте работу! Головин вскочил, опрокинув стул, и бросился к выходу, чуть ли не бегом. Он бормотал что-то о том, что ему срочно нужно в архив. Он убегал. Он не мог выносить эту сцену. Соколова вывела Ирину в коридор, плотно притворив за собой дверь. Анна осталась в лаборатории одна. Тишина давила на уши. Гудели приборы. Капала вода из плохо закрытого крана. И пахло страхом. Всепроникающим, липким страхом. Анна знала, что должна что-то делать. Прямо сейчас. Ирина была на грани. Соколова могла сделать с ней все что угодно. Запугать еще сильнее. Накачать лекарствами. Или хуже. Анна посмотрела на стол Ирины. В открытом ящике валялись какие-то бумаги. Анна быстро подошла к столу. Она не искала ничего конкретного. Она просто смотрела. И увидела. Под стопкой промокашек лежал маленький скомканный шарик бумаги. Точно такой же, какой она видела в отражении, когда Ирина вырывала листы из дневника. Видимо, этот шарик выпал у нее из кармана. Анна, не раздумывая, схватила его. Руки ее действовали быстрее, чем мозг. Она сунула комок в карман своего халата. В этот момент в коридоре послышались шаги. Анна отскочила от стола и снова взялась за ведро, изображая бурную деятельность. Дверь открылась. Вошла Соколова. Одна. – Вы еще здесь, Кузьминична? – ее голос был обманчиво спокоен. – Заканчивайте. Нам нужно закрыть лабораторию на санобработку. – Где Ирочка? – как можно более простодушно спросила Анна. – Ей нехорошо? – Ей стало плохо. Я отправила ее домой, – отрезала Соколова, не глядя на нее. Она начала собирать какие-то бумаги со стола Вершинина, которого до этого никто не трогал. Она действовала быстро и методично, как ликвидатор. Она уничтожала последние следы его присутствия. Ложь. Все было ложью. Анна знала, что Ирина не пошла домой. Она чувствовала это всем своим существом. Она забрала мусорную корзину и вышла из лаборатории. Коридор был пуст. Она покатила свое ведро к подсобке. Внутри, заперев дверь на крючок, она дрожащими пальцами развернула бумажный шарик. Это были те самые вырванные страницы. Всего две. Почерк был торопливым, испуганным. «Суббота. Вечер. Я вернулась. Крик. Удар. Я видела. Штатив. Кровь. Он сказал ей: «Галя, что ты наделала?!» Это был голос Головина. А она ответила: «То, что давно нужно было сделать. Он бы все равно не отдал нам «Изделие». Теперь оно наше. Звони Мещерякову. Быстро!» Он упал на колени, его рвало. Она смотрела на него с презрением. А потом увидела меня в щели. Ее глаза… Я никогда не забуду ее глаза…» Дальше текст обрывался. Это было прямое доказательство. Не просто рассказ о событии, а описание, с прямой речью. Это был приговор. Анна осторожно сложила листки и спрятала их глубоко в карман. Она знала, что этот клочок бумаги теперь самое ценное и самое опасное, что у нее есть. Это была жизнь Ирины и, возможно, ее собственная. Она вышла из каморки. Институт жил своей тихой, лживой жизнью. Но Анна Кузьминична знала, что под тонкой коркой казенного порядка бурлит черная, смертельная лава. И она, простая уборщица с ведром и шваброй, стояла на самом краю этого вулкана. Она закончила работу и пошла к выходу. В ее голове был только один вопрос: что делать дальше? Кому можно отдать эти листки? Милиции? Но директор связан с министерством. Человеку в сером костюме? Но кто он? Друг или враг? Она шла по гулкому холлу, и каждый шаг отдавался у нее в голове ударом молота. У самой проходной ее остановил тихий голос. – Анна Кузьминична. Задержитесь на минуту. Она обернулась. Перед ней стоял незнакомый мужчина. Среднего роста, лет сорока, в хорошо сшитом, но неприметном сером костюме. У него было усталое, ничем не примечательное лицо и очень внимательные, светлые глаза. Те самые глаза, которые, казалось, видят не то, на что ты смотришь, а то, о чем ты думаешь. – Меня зовут Лаптев Николай Васильевич, – представился он, показывая краешек красной корочки. – Майор государственной безопасности. Нам с вами нужно поговорить. Сердце Анны ухнуло куда-то вниз, а потом забилось часто-часто, как пойманная в силки птица. Это был он. Тот самый Лаптев. Человек из министерства. И он пришел за ней.
Допрос у директора
Дверь проходной, тяжелая, обитая потрескавшимся дерматином, захлопнулась за ее спиной с глухим, окончательным стуком. Этот звук отрезал ее от привычного, серого и дождливого мира московского утра, от шума троллейбусов и озабоченных лиц прохожих, и оставил наедине с этим человеком в неприметном сером костюме и с тихим голосом. Анна Кузьминична стояла, не двигаясь, чувствуя, как холодный, липкий страх ползет вверх по спине, сковывая дыхание. Она крепче сжала ручку своей старой, потертой сумки. Там, под стопкой чистого белья, которое она всегда носила с собой на смену, и рядом с узелком с обедом, лежали два маленьких, скомканных листка бумаги. Два клочка чужой жизни, чужого ужаса, которые теперь стали ее собственностью и ее проклятием. Они жгли ее сквозь ткань сумки, сквозь толщу пальто, казались тяжелее свинца.
Человек, назвавшийся Лаптевым, майором государственной безопасности, смотрел на нее спокойно, почти безразлично. Но в его светлых, очень внимательных глазах не было ни капли этого безразличия. В них был интерес – холодный, изучающий интерес энтомолога, разглядывающего редкое насекомое. Он не торопил ее, давая страху сделать свою работу, давая ей самой осознать всю глубину той пропасти, на краю которой она очутилась. Гулкий холл института, который она каждое утро наполняла плеском воды и скрипом швабры, сейчас казался чужим и враждебным. Длинные тени от колонн лежали на стертом линолеуме, как застывшие черные реки. Тишина давила, и в этой тишине стук ее собственного сердца звучал оглушительно, как барабанная дробь перед казнью.
«Вот и все, – подумала Анна с какой-то отстраненной тоской. – Дозналась. Досмотрелась. Маленький человек, возомнивший о себе. Куда ты лезла, старая дура? Против директора, против целого института, против… них». Она знала, что означают эти три буквы, выгравированные на красной корочке, краешек которой он ей показал. В ее жизни, в жизни любого человека ее поколения, эти буквы были вплетены в саму ткань бытия, как невидимая, но прочная нить. Они означали конец споров, конец вопросов, конец частной жизни. Они означали власть, перед которой все были равны в своем бесправии.
Но потом, сквозь ледяную корку страха, пробилось что-то другое. Упрямое, горячее. Это было не мужество, нет. Анна Кузьминична не считала себя мужественной. Это было чувство правоты, простое и твердое, как камень. Она видела кровь. Она читала предсмертный крик испуганной девочки. Она знала, что в этих стерильных стенах, под прикрытием белых халатов, было совершено зло. Грязное, липкое, трусливое зло. И если она сейчас отступит, если позволит страху заткнуть ей рот, то эта грязь останется с ней навсегда, въестся в душу, и никакая хлорка ее не отмоет. Она медленно выдохнула, расправляя плечи. Она была всего лишь уборщицей. Но даже у уборщицы есть то, что нельзя отнять – совесть.
– Нам нужно поговорить, Анна Кузьминична, – повторил Лаптев все тем же ровным голосом, словно не замечая ее внутренней борьбы. – Не здесь. Пройдемте, пожалуйста.
Он не взял ее под локоть, не сделал никакого угрожающего жеста. Он просто повернулся и пошел в сторону директорского крыла, уверенный, что она последует за ним. И она пошла. Ее резиновые сапоги тихо скрипели по чисто вымытому ею же вчера полу. Каждый шаг отдавался гулким эхом в пустом коридоре и в ее опустевшей от мыслей голове. Она шла мимо стендов с фотографиями передовиков науки, мимо фикусов в тяжелых кадках, мимо дверей с латунными табличками. Мимо мира, который еще вчера был ее миром, а сегодня стал сценой, где она была не зрителем, а участником страшного спектакля.
Они подошли к приемной директора. Массивная дубовая дверь с табличкой «Мещеряков С.П.» была плотно прикрыта. Лаптев не постучал. Он просто открыл ее и пропустил Анну вперед.
Приемная встретила их оглушительным стрекотом пишущей машинки «Эрика». За столом, прямая, как натянутая струна, сидела Надежда Сергеевна. Ее пальцы, как десять маленьких молоточков, яростно били по клавишам. Она не подняла головы, делая вид, что поглощена работой, но Анна увидела, как застыла на мгновение ее спина, как напряглись плечи.
– Доброе утро, Надежда Сергеевна, – голос Лаптева прозвучал в этом механическом стрекоте неестественно тихо.
Секретарь вздрогнула и наконец оторвалась от машинки. Она посмотрела на Лаптева, и ее лицо, обычно строгое и непроницаемое, как у фарфоровой куклы, на секунду исказилось. Это был не просто испуг. Это был животный, первобытный ужас. Затем ее взгляд скользнул на Анну, стоявшую чуть позади майора, и в ужасе появилось еще и недоумение, смешанное с презрением. Как эта уборщица, эта женщина с ведром и тряпкой, могла оказаться здесь, рядом с таким человеком?
– Здравствуйте, – выговорила она, и голос ее был тонок и хрупок, как льдинка. – Сергей Павлович… он занят. У него совещание.
– Совещание отменяется, – так же спокойно ответил Лаптеев. – Он ждет нас.
Надежда Сергеевна побледнела еще сильнее. Ее руки, лежавшие на клавиатуре, мелко дрожали. Она облизала пересохшие губы.
– Я… я доложу.
– Не стоит беспокоиться. Я доложу сам.
Лаптев подошел к двери кабинета директора и, снова не постучав, открыл ее. Он обернулся к Анне.
– Проходите, Анна Кузьминична.
Анна сделала шаг, потом другой. Проходя мимо стола секретаря, она уловила острый запах валерьянки и увидела то, что подтвердило все ее догадки. В тяжелой мраморной пепельнице, которая обычно была идеально чистой, громоздилась гора окурков. Надежда Сергеевна не курила. Значит, здесь, в этой приемной, ночью или ранним утром, кто-то очень долго и очень нервно ждал. Ждал и курил одну сигарету за другой. И этот кто-то был сам директор, Сергей Павлович Мещеряков. Он выходил из своего кабинета, не в силах оставаться в четырех стенах, и курил здесь, под испуганным взглядом своей верной секретарши.
Анна вошла в кабинет директора. Она была здесь сотни раз, но всегда с ведром и шваброй, когда кабинет был пуст. Она знала, как скрипит третья половица паркета у окна, знала, где скапливается больше всего пыли – на тяжелых бархатных шторах и на корешках книг в застекленных шкафах. Но сейчас она видела это место по-другому. Оно больше не было просто рабочим кабинетом. Это было логово. Логово человека, который покрывал убийство.
Кабинет был огромным, гулким, обставленным с тяжеловесной, казенной роскошью. Полированный стол размером с бильярдный, зеленый бюст Ленина в углу, портрет Брежнева на стене. Тяжелые кресла, обитые темно-зеленой кожей. Воздух был пропитан запахом дорогого табака «Золотое Руно», старой кожи и еще чего-то неуловимого – запахом власти и страха.
Сергей Павлович Мещеряков стоял у окна, спиной к вошедшим. Он был в идеально отглаженном костюме, высокий, представительный. Но даже со спины в его фигуре чувствовалось огромное напряжение. Он не обернулся, когда они вошли.
– Сергей Павлович, – начал Лаптев, закрывая за собой дверь. Звук щелкнувшего замка показался Анне оглушительным. – Я привел Анну Кузьминичну Трофимову. Думаю, ее присутствие будет полезно для нашей беседы.
Мещеряков медленно повернулся. Анна видела его на собрании позавчера, когда он объявлял о «трагической кончине» Вершинина. Тогда он выглядел постаревшим и серым. Сегодня он выглядел хуже. Лицо его было землистого цвета, под глазами залегли глубокие, темные тени. Но он пытался держаться. Он даже попытался изобразить на лице некое подобие снисходительной улыбки, обращенной к Анне.
– А, Анна Кузьминична, – протянул он голосом, в котором фальшивая бодрость смешивалась с плохо скрытой тревогой. – Проходите, присаживайтесь. Не стойте в дверях. Что же вы, Николай Васильевич, так пугаете наших лучших работников. Анна Кузьминична у нас двадцать лет трудится. Человек проверенный, уважаемый.
Он указал на стул для посетителей, стоявший поодаль от его массивного стола. Анна молча села на краешек, поставив сумку на колени и вцепившись в нее так, что побелели костяшки пальцев. Лаптев не сел. Он остался стоять у двери, наблюдая. Его присутствие молчаливо доминировало в комнате.
Мещеряков обошел свой стол и грузно опустился в огромное кожаное кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. Он сложил руки на полированной столешнице, стараясь казаться хозяином положения.
– Итак, – начал он, обращаясь к Лаптеву, но искоса поглядывая на Анну. – Я так понимаю, это какая-то формальность. Проверка. Понимаю, положено. Смерть в стенах государственного учреждения, это всегда… неприятно. Но, как я уже докладывал, все совершенно очевидно. Трагический несчастный случай. У Олега Петровича давно были проблемы с сердцем, он много работал, на износ. В субботу задержался… приступ… упал, ударился. Мы с Галиной Ивановной Соколовой его нашли. Сразу вызвали врача. К сожалению, было уже поздно.






