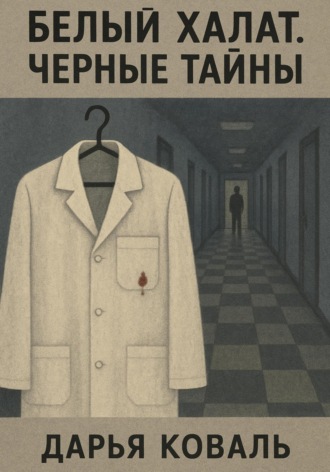
Полная версия
Белый халат. Черные тайны

Дарья Коваль
Белый халат. Черные тайны
Утро после субботы
Понедельник никогда не был любимым днем Анны Кузьминичны. Он всегда приходил слишком резко, слишком серо, выдергивая из сонной неги воскресенья, из тепла маленькой квартиры на окраине, где пахло пирогами и старыми книгами. Но этот понедельник, последний в хмуром, плачущем октябре, был особенно тяжел. Ночь почти не спала, ворочалась, слушала, как за окном ветер срывает с тополей последние, отчаявшиеся листья и швыряет их в стекло. Ветер выл по-зимнему, тоскливо, будто жаловался на свою бездомную долю. Анна встала задолго до того, как зазвонил старенький будильник «Слава», его дребезжащий бой давно стал частью ее утреннего ритуала. Она двигалась по квартире бесшумно, привычно, не зажигая верхнего света, чтобы не спугнуть остатки дремы. На кухне, в синеватом свете уличного фонаря, она заварила в кружке с отбитой ручкой густой, горький чай, какой пила всю жизнь. Сахар давно не клала – ни к чему это баловство. Откусила кусочек черствого хлеба. Еда не лезла в горло, внутри сидел холодный, неприятный комок, и дело было не только в погоде. Какая-то необъяснимая тревога, смутное предчувствие висело в воздухе еще с субботы.
Дорога до института занимала сорок минут на дребезжащем троллейбусе и еще десять пешком. Анна Кузьминична любила эту пешую часть пути. Она шла мимо типовых пятиэтажек, мимо сонного гастронома, где еще только выставляли на прилавок молочные бутылки с крышечками из фольги, мимо детского сада, откуда уже доносились первые капризные голоса. Эта утренняя Москва была ее Москвой – тихой, будничной, еще не оглушенной ревом машин и гомоном толпы. Но сегодня все казалось иным. Небо висело низко, тяжелое, свинцовое, готовое в любой момент пролиться холодным дождем. Даже знакомые дома выглядели чужими, неуютными.
Здание Научно-исследовательского института прикладной биохимии встречало ее привычной монументальной строгостью. Массивный четырехэтажный корпус из серого кирпича, с высокими окнами, за которыми, как знала Анна, скрывались лаборатории, кабинеты, хранилища – целый мир, живущий по своим, особым законам. Мир белых халатов, колб, реторт и тихих, напряженных разговоров. Двадцать лет она входила в эти двери. Двадцать лет ее ведро и швабра наводили здесь порядок, смывали следы чужих жизней, чужих успехов и неудач. Она знала этот институт лучше многих, кто носил здесь звания кандидатов и докторов наук. Она знала его запахи: острый, стерильный запах хлорки в коридорах, сладковатый аромат реактивов из лаборатории органического синтеза, запах пыльных бумаг из архива и крепкого табака «Золотое Руно» из кабинета директора Мещерякова. Она знала его звуки: гудение центрифуг, щелканье счетчиков, скрип паркета под торопливыми шагами и гулкое эхо в пустых холлах по вечерам. Она была частью этого места, его незаметной, но необходимой деталью, как винтик в сложном механизме.
На проходной ее встретил Павел Андреевич, ночной сторож, сухонький старичок с седыми усами и вечно недовольным выражением лица. Но Анну он любил, по-своему, по-стариковски.
– Не спится, Кузьминична? – прошамкал он, не отрываясь от кроссворда в «Вечерней Москве». – Птичка ранняя.
– И тебе не хворать, Андреич, – мягко ответила Анна, расписываясь в журнале прихода. – Как ночь прошла? Спокойно?
Павел Андреевич хмыкнул, поднял на нее выцветшие глаза. В них плескалась не то усталость, не то что-то еще.
– Спокойно, как же. Беготня тут была в субботу. Допоздна. Мещеряков приезжал. И Соколова эта, мегера твоя из четвертой. Нервные все, как на иголках. Будто не институт, а улей растревоженный.
– В субботу? – удивилась Анна. – Чего им в выходной не сидится?
– Наука, Кузьминична, она выходных не знает, – философски изрек сторож и снова уткнулся в газету. – Особенно когда премия на носу. Или беда какая.
Слово «беда» кольнуло Анну. Она кивнула, забрала свои ключи с доски и пошла дальше, вглубь гулкого холла. Слова Павла Андреевича только усилили ее утреннюю тревогу. Субботняя работа для ученых не была чем-то из ряда вон выходящим, Вершинин, например, мог и в воскресенье засидеться. Но чтобы сам директор приезжал… Сергей Павлович Мещеряков ценил свои выходные и покой. Что-то должно было случиться.
Ее рабочее место, каморка под лестницей, встретила ее запахом сырости и хозяйственного мыла. Здесь было все ее хозяйство: несколько оцинкованных ведер, стопка чистых тряпок, швабры, щетки, бутыли с моющими средствами. Анна Кузьминична переоделась в свой рабочий халат – не белый, как у научных сотрудников, а простой, синий, застиранный до бледности. Повязала голову косынкой. Оглядела себя в мутное зеркальце, висевшее на гвозде. Из зеркала на нее смотрела пожилая женщина с уставшими, но ясными серыми глазами. Лицо в сетке морщин, но не злое, а скорее сосредоточенное. Руки, узловатые, с натруженными пальцами, привыкшие к тяжелой работе. Она не была красавицей и в молодости, а сейчас и подавно. Но в ее взгляде была сила, которую не давали ни звания, ни должности. Сила человека, который всю жизнь честно делал свое дело и смотрел правде в глаза, какой бы та ни была.
Она набрала в ведро горячей воды, щедро плеснула хлорки. Едкий запах ударил в нос, но для Анны он был запахом чистоты, порядка. С этого начинался каждый ее день. С борьбы с грязью, с хаосом. Она начала с первого этажа. Длинный коридор, директорский флигель. Здесь нужно было работать особенно тщательно. Мещеряков не терпел ни пылинки. Его секретарь, Надежда Сергеевна, женщина строгая и педантичная, проверяла каждый угол. Анна мыла пол размеренными, отточенными движениями. Швабра в ее руках двигалась легко, почти беззвучно, оставляя за собой темный, влажный след, который быстро испарялся, делая старый линолеум почти новым.
К тому времени, как она закончила с первым этажом, институт начал просыпаться. Захлопали двери, в коридорах послышались шаги, приглушенные разговоры. Анна кивала знакомым, но ни с кем не заговаривала. Она знала свое место. Уборщица – человек-невидимка. Ее замечают, только когда грязно. Когда чисто – ее будто и нет. И это ее устраивало. Будучи невидимкой, она видела и слышала больше других. Она замечала, как изменился взгляд у молодого аспиранта Головина после проваленного эксперимента, как нервно теребит платок лаборантка Ирина Власова, когда ждет звонка, как прячет глаза завлаб Соколова, когда выходит из кабинета директора. Люди в белых халатах считали ее частью интерьера, как фикус в кадке или стенд с фотографиями передовиков. И не догадывались, что у этой части интерьера есть острый глаз и хорошая память.
Второй этаж. Лаборатории, святая святых. Здесь пахло иначе. К запаху хлорки примешивались другие, химические, иногда резкие, иногда едва уловимые. Анна начала с лаборатории №4. Это была одна из ведущих лабораторий, ею заведовала Галина Ивановна Соколова. Женщина властная, резкая, которую за глаза побаивались и недолюбливали. Но ученый она была, как говорили, от бога. Здесь работал и Олег Вершинин. Старший научный сотрудник, человек молчаливый, погруженный в себя. Анна хорошо его знала. Он часто засиживался допоздна, и она, заканчивая уборку, видела свет в его окне. Иногда они сталкивались в коридоре. Он всегда здоровался первым, чуть смущенно улыбаясь своей доброй, детской улыбкой. Спрашивал, не тяжело ли ей. Простой был человек, не кичился своим положением. Анна его уважала.
Она толкнула дверь лаборатории. Внутри было тихо и сумрачно. Утренний свет едва пробивался сквозь большие окна, немытые с весны. Воздух был спертый, тяжелый. И что-то еще… какой-то странный, едва уловимый запах. Не реактивы. Что-то металлическое, с привкусом сладости. Анна нахмурилась. Она знала все запахи этого места, но этот был чужим, тревожным.
Лаборатория была большой, заставленной столами с оборудованием, шкафами со стеклянными дверцами, за которыми теснились ряды колб и пробирок. Порядок здесь всегда был относительный, творческий беспорядок, как называла это Соколова. Но сегодня беспорядок был иным. Стул у стола Вершинина был опрокинут. На полу валялись какие-то бумаги. Штатив с пробирками лежал на боку. Анна подошла ближе. Она всегда начинала уборку с дальнего угла, от окна. Но что-то заставило ее остановиться у стола Вершинина.
Она поставила ведро. Присмотрелась к полу. Линолеум здесь был старый, темно-коричневый, в мелкую крапинку. На нем легко было скрыть любое пятно. Но глаз у Анны был наметанный. Она увидела его почти сразу. У ножки стола пол был чуть светлее, чем вокруг. Словно его терли. Тщательно, с усилием. Но тот, кто тер, видимо, спешил. Или нервничал. Анна опустилась на колени, изображая, что поправляет ведро. Поближе, еще поближе. Да, так и есть. Прямо под стыком ножки стола и металлической окантовки виднелась тонкая, почти незаметная полоска. Темно-бурая, почти черная. Она провела по ней пальцем. Палец стал чуть липким. Она поднесла его к носу. Тот самый металлический, сладковатый запах. Кровь. Замытая кровь.
Сердце ухнуло и зачастило, как пойманная птица. Анна медленно поднялась. Огляделась. Пустая, тихая лаборатория вдруг показалась ей зловещей. Каждый прибор, каждая тень в углу смотрели на нее с немым укором. Кровь. Здесь была кровь. И ее пытались скрыть. Неумело, впопыхах. Так не убирают профессионалы. Так убирает тот, кто боится, кто хочет поскорее избавиться от улик.
Она заставила себя взять в руки швабру. Нужно было продолжать работу, делать вид, что ничего не произошло. Сейчас придут люди. Нельзя выдать себя, свое знание. Она начала мыть пол, двигаясь от окна, постепенно приближаясь к столу Вершинина. Мысли в голове путались, цеплялись одна за другую. Слова Павла Андреевича о субботней суете, о нервных Мещерякове и Соколовой. Опрокинутый стул. И эта кровь. Что здесь случилось в субботу?
Когда ее влажная тряпка коснулась подозрительного места, она намеренно провела по нему несколько раз, стирая последние следы. Не потому, что хотела помочь тому, кто это сделал. А потому, что не хотела, чтобы кто-то другой их нашел. Этот маленький, страшный секрет теперь был ее. Она должна была сама понять, что он значит.
В коридоре послышались шаги и голоса. Дверь лаборатории открылась. Вошла Галина Соколова. Как всегда, прямая, подтянутая, в идеально отглаженном белом халате. Но лицо ее было серым, а под глазами залегли глубокие тени. За ней семенил Виктор Головин, молодой кандидат наук, вечный подпевала Соколовой. Он выглядел откровенно напуганным, глаза его бегали, руки беспрестанно теребили пуговицу на халате.
– Анна Кузьминична, что вы тут копаетесь? – резко бросила Соколова, даже не поздоровавшись. – Давайте быстрее, нам работать надо.
– Утро доброе, Галина Ивановна, – спокойно ответила Анна, не поднимая головы. – Работаю, как положено. Чистота – залог здоровья. И точных экспериментов.
Соколова фыркнула, но ничего не ответила. Она прошла к своему столу, бросила на него портфель. Головин юркнул к своему рабочему месту, стараясь держаться в тени. Атмосфера в лаборатории стала не просто тяжелой, а почти невыносимой. Тишина звенела в ушах. Было слышно, как тяжело дышит Головин, как скрипит стул под Соколовой.
Анна заканчивала мыть пол. Она работала медленно, методично, давая себе время наблюдать. Соколова не начинала работу. Она сидела, уставившись в одну точку, и ее пальцы сжимали ручку так, что костяшки побелели. Головин делал вид, что перебирает какие-то бумаги, но руки его дрожали, и листы шуршали слишком громко.
– Виктор, – вдруг сказала Соколова, и ее голос прозвучал глухо и чуждо в этой тишине. – Журнал на место положили?
– Да, Галина Ивановна. Конечно. Как вы и велели, – торопливо закивал Головин. – Все на месте.
– Проверь еще раз. Все должно быть в идеальном порядке. Ты меня понял? В идеальном.
Анна выжимала тряпку в ведро. Каждое их слово отпечатывалось в ее памяти. Какой журнал? Почему он должен быть в идеальном порядке именно сегодня?
Вскоре лаборатория стала наполняться другими сотрудниками. Пришла молоденькая лаборантка Ирина Власова. Ее глаза были красными и опухшими от слез. Она ни на кого не глядя прошла к своему столу в углу, села и уронила голову на руки. Никто не подошел ее утешить. Все делали вид, что не замечают ее состояния. Люди здоровались друг с другом приглушенными голосами, передвигались на цыпочках, боясь нарушить тягостную тишину.
Новость пришла с лаборанткой из соседнего отдела, которая заскочила за каким-то реактивом. Она говорила шепотом, но в мертвой тишине ее слова были слышны в каждом углу.
– Вы слышали? Вершинин… Олег Петрович… Погиб.
По лаборатории пронесся вздох, больше похожий на стон. Ирина Власова в своем углу зарыдала в голос, уже не сдерживаясь.
– Как погиб? – спросил кто-то.
– Несчастный случай, говорят. В субботу вечером, здесь, в лаборатории. Задержался на работе, стало плохо с сердцем, упал, ударился головой о край стола… Насмерть. Директор нашел. Ужас какой. Такой человек…
Несчастный случай. Упал, ударился. Анна выпрямилась, держа в руке швабру. Она смотрела на стол Вершинина. На то место на полу, где еще полчаса назад была кровь. Если человек упал и ударился головой, будет кровь. Много крови. И никто не станет ее замывать. Вызовут милицию, скорую. Будет протокол, осмотр места происшествия. А здесь… здесь кто-то очень старался убрать следы. Значит, это был не несчастный случай. Или несчастный случай, которому кто-то помог.
Ее взгляд встретился со взглядом Соколовой. Всего на мгновение. В глазах заведующей лабораторией Анна увидела не скорбь, а страх. Холодный, липкий страх. И еще приказ. Молчать. Не лезть. Забыть. Соколова тут же отвернулась, начала отдавать резкие, отрывистые распоряжения, пытаясь вернуть в лабораторию подобие рабочей атмосферы.
– Хватит сплетничать! – отрезала она. – Случилась трагедия. Но работу никто не отменял. Ирина, возьми себя в руки или иди домой. Головин, подготовьте отчет за прошлую неделю. Остальные, за работу!
Люди неохотно разошлись по своим местам. Но работа не клеилась. Все разговоры велись шепотом. Обсуждали Вершинина. Говорили, какой он был талантливый ученый, какой хороший человек. Кто-то вспомнил, что в последнее время он был каким-то нервным, замкнутым. Спорил о чем-то с Соколовой. Даже с директором у него был какой-то разговор на повышенных тонах. Слухи, обрывки фраз, догадки. Анна впитывала все это, продолжая свою нехитрую работу. Она протерла пыль со шкафов, вынесла мусорные корзины.
В корзине у стола Вершинина, среди скомканных бумаг с формулами, она заметила что-то блеснувшее. Осторожно, чтобы никто не видел, она запустила руку в корзину. Пальцы нащупали мелкие осколки стекла. Она вытащила один. Это был осколок от пробирки. Но он был странный, с оплавленным краем. Не похоже, чтобы пробирка просто разбилась. Больше похоже, что ее нагревали, и она лопнула. Анна незаметно опустила осколок в карман своего халата. Еще одна маленькая деталь, которая не вписывалась в общую картину.
Закончив в четвертой лаборатории, она покатила свое ведро дальше по коридору. Но мысли ее остались там, у стола Олега Вершинина, рядом с едва заметным, стертым ею самой пятном крови. Картина случившегося понемногу складывалась в ее голове, как мозаика. Суббота, вечер. Вершинин работает в лаборатории. Он не один. С ним Соколова, возможно, Головин. И директор Мещеряков, который приезжает позже. Происходит что-то страшное. Вершинин погибает. Но его смерть – не случайность. После этого начинается паника. Они пытаются скрыть то, что произошло. Убирают кровь, приводят все в относительный порядок, фабрикуют картину несчастного случая. Но они ученые, а не уборщики и не преступники. Они оставляют следы, которые может заметить только такой человек, как она. Человек, для которого порядок и чистота – это профессия.
Весь день Анна Кузьминична работала как автомат. Ее руки привычно выполняли свою работу, а голова была занята другим. Она наблюдала. Она видела, как в институт приезжали люди в штатском. Не милиция. Другие. Солидные, с непроницаемыми лицами. Их провели в кабинет директора. Видела, как выходила оттуда бледная, как полотно, Надежда Сергеевна, секретарь. Видела, как вызывали на «беседу» Соколову и Головина. Они возвращались оттуда еще более подавленными.
Институт гудел, как растревоженный улей, как и говорил Павел Андреевич. Но гул этот был тихим, подпольным. Официальная версия была озвучена на экстренном пятиминутном собрании в обеденный перерыв. Директор Мещеряков, с лицом серым и постаревшим за одну ночь, говорил о трагической, безвременной кончине талантливого ученого Олега Петровича Вершинина. Говорил о его преданности науке, о проблемах с сердцем, о которых, якобы, все знали. Говорил правильные, казенные слова соболезнования. И никто не задал ни одного вопроса. Все стояли, опустив головы, и молчали. Это молчание было страшнее любых криков. В нем чувствовался страх. Люди боялись. Боялись спросить, боялись посмотреть друг другу в глаза. Потому что понимали или чувствовали – им лгут.
Анна стояла в стороне, у стены, со своей шваброй. Она тоже молчала. Но ее молчание было другим. Это было молчание человека, который ждет. Она смотрела на директора, на Соколову, стоявшую рядом с ним, на съежившегося Головина. Она видела их ложь. Она чувствовала ее, как чувствуют сквозняк в закрытой комнате. И она знала, что не сможет просто так жить с этой ложью.
Ее рабочий день подходил к концу. Институт пустел. Усталые люди расходились по домам, унося с собой страх и тяжелые мысли. Анна делала последнюю, вечернюю уборку. В коридорах было тихо, только ее шаги и плеск воды в ведре нарушали тишину. Она снова зашла в лабораторию №4. Там уже никого не было. Только приборы тихо гудели в полумраке. Она подошла к столу Ирины Власовой. Девушка ушла домой одной из первых, оставив на столе беспорядок. Среди бумаг и колб лежал маленький блокнот в синей обложке. Дневник. Анна знала, что Ирина ведет дневник, та часто что-то строчила в нем в обеденный перерыв. Анна на мгновение замерла. Чужие тайны, чужие письма, дневники – это было табу. Всю жизнь она придерживалась этого правила. Но сейчас… Сейчас это могло быть важно. Она не взяла его. Просто поправила на столе, отметив про себя его существование.
Она закончила работу, когда за окнами уже совсем стемнело. Переоделась в свое пальто, сдала ключи сонному сменщику Павла Андреевича. Вышла на улицу. Холодный октябрьский ветер ударил в лицо, заставил поежиться. Она побрела к троллейбусной остановке. Город жил своей обычной вечерней жизнью: светились окна домов, спешили по своим делам прохожие, гудели машины. Но для Анны Кузьминичны мир изменился. Сегодня утром, в тихой лаборатории, она наткнулась на тайну. Черную, липкую, пахнущую кровью. И эта тайна теперь жила в ней. Она могла бы сделать вид, что ничего не заметила. Промолчать. Так было бы проще, безопаснее. Она была всего лишь уборщицей, маленьким человеком. Что она могла сделать против директора, против целой системы, которая так слаженно и быстро состряпала удобную для всех версию?
Она стояла на остановке, и мимо проплывал ее троллейбус. Она не села в него. Она смотрела ему вслед, пока его красные огоньки не растворились в темноте. Она знала, что не промолчит. Не потому, что была смелой. Она боялась, очень боялась. Но чувство справедливости, которое было стержнем всей ее жизни, было сильнее страха. Олег Вершинин был хорошим человеком. И он не заслужил, чтобы его смерть была прикрыта такой наглой, трусливой ложью. Кто-то должен был узнать правду. И если никто другой не хотел или не мог ее искать, значит, это придется сделать ей. Анне Кузьминичне Трофимовой, уборщице. Вооружившись не пистолетом и удостоверением, а ведром, шваброй и двадцатью годами наблюдений за миром белых халатов. Она дождется следующего троллейбуса. Завтра будет новый день. И она будет смотреть еще внимательнее.
Ведро, швабра и подозрение
Вторник встретил Анну Кузьминичну тем же серым, низко нависшим небом, что и понедельник. Казалось, за прошедшие сутки ничего не изменилось: тот же холодный, сырой воздух, те же мокрые тротуары, те же озабоченные лица прохожих, спешащих укрыться в тепле контор и учреждений. Но для Анны изменилось все. Мир, прежде состоявший из простых и понятных вещей – работы, дома, редких встреч с соседкой, воскресных пирогов – раскололся. В нем появилась трещина, и из этой трещины тянуло ледяным сквозняком лжи и страха. Ночь она снова спала плохо, но это была уже не тревога предчувствия, а тяжелая дума деятельного ума. Она снова и снова прокручивала в голове события вчерашнего утра: едва заметный след на линолеуме, его странный сладковато-металлический запах, опрокинутый стул, оплавленный осколок пробирки в мусорной корзине. И главное – официальная версия, такая гладкая, такая удобная и такая фальшивая. Несчастный случай. Упал, ударился. А кто-то в панике, вместо того чтобы вызвать милицию, как положено, принялся замывать кровь. И не просто кто-то, а свои же, ученые, люди в белых халатах.
Входя в институт, она уже не чувствовала себя просто уборщицей, незаметным винтиком. Она ощущала себя хранителем тайны, и эта ноша была тяжелой, но по-своему придавала ей сил и значимости. На проходной сидел уже другой сторож, сменщик Павла Андреевича, пожилой и тучный, погруженный в чтение «Советского спорта». Он лишь лениво кивнул на ее приветствие. Анна расписалась в журнале, взяла ключи. Густой запах хлорки, оставшийся с ее вчерашней уборки, все еще витал в холле, но сегодня он казался ей запахом не чистоты, а сокрытия. Она шла по коридору первого этажа, и каждый скрип ее резиновых сапог отдавался в гулкой тишине, как удар молота.
Вчерашнее экстренное собрание и официальное объявление о смерти Вершинина словно выпустили пар из котла. Сегодня институт пытался жить своей обычной жизнью. Хлопали двери, в коридорах слышались шаги и приглушенные голоса. Но это была лишь видимость. Анна, с ее двадцатилетним опытом наблюдения за этим мирком, видела то, что было скрыто от поверхностного взгляда. Люди старались не встречаться глазами. Разговоры велись о работе, о погоде, о планах на ноябрьские праздники, но велись как-то натужно, с показной бодростью. Смех, если и раздавался, был коротким и нервным. Атмосфера была похожа на затишье после бури, когда воздух еще дрожит от напряжения, а все вокруг замерло в ожидании нового удара. Страх не ушел, он просто затаился, спрятался за столами с приборами, в папках с отчетами, в глазах, спешно отводимых в сторону.
Свою работу она начала, как всегда, с директорского крыла. Здесь требовалась особая тщательность. Анна набрала в ведро чистой горячей воды, добавила немного мыльного раствора – хлорку здесь не жаловали. Кабинет директора, Сергея Павловича Мещерякова, был еще заперт. Анна принялась за приемную. Секретарь, Надежда Сергеевна, уже сидела на своем месте, строгая, подтянутая, с идеально уложенными в пучок волосами. Но ее руки, обычно спокойно лежавшие на стопке бумаг, сегодня беспрестанно теребили уголок блокнота.
– Доброе утро, Анна Кузьминична, – сказала она голосом, который старался быть ровным, но в нем дребезжали тонкие, как стекло, нотки.
– И вам доброго, Надежда Сергеевна, – ровным тоном ответила Анна, ставя ведро и опирая швабру о стену.
Она работала молча, как всегда. Протерла пыль с массивного полированного стола секретаря, с подоконника, с фикуса в тяжелой глиняной кадке. Надежда Сергеевна делала вид, что занята бумагами, но Анна чувствовала на себе ее взгляд. Женщина наблюдала за ней, и в этом наблюдении была не обычная проверка качества работы, а что-то другое – тревога, почти страх. Когда Анна, опустившись на колени, протирала плинтус у стола, зазвонил телефон. Секретарь вздрогнула так, словно прозвучал выстрел.
– Приемная директора, слушаю, – произнесла она в трубку, и Анна, не поднимая головы, отметила, как напряглась ее спина. – Да, Сергей Павлович у себя… Нет, он просил не соединять… Да, я понимаю, что это важно… Хорошо, я доложу, как только он освободится.
Она положила трубку с излишней осторожностью, словно боялась ее разбить. Анна продолжала мыть пол, медленно продвигаясь к двери в кабинет директора. Из-за двери не доносилось ни звука. Мещеряков был там, но он молчал.
– Тяжелый день вчера был, – сказала Анна вполголоса, не обращаясь ни к кому конкретно, выжимая тряпку над ведром.
Надежда Сергеевна снова вздрогнула.
– Не то слово, Анна Кузьминична. Горе какое… Олег Петрович… Такой ученый, такой человек.
– Сердце, говорят, – так же тихо продолжила Анна, внимательно глядя на мутную воду в ведре.
– Да… сердце, – эхом повторила секретарь. – Он жаловался в последнее время, да. Работал много, на износ. Наука, она ведь всех соков требует.






