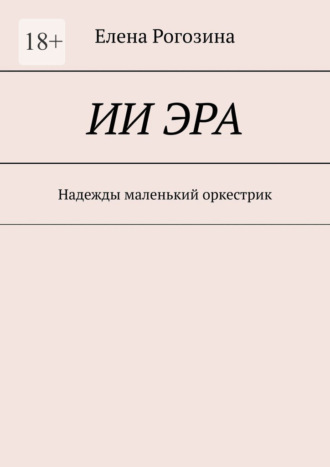
Полная версия
ИИ Эра. Надежды маленький оркестрик

ИИ Эра
Надежды маленький оркестрик
Елена Рогозина
© Елена Рогозина, 2025
ISBN 978-5-0068-1887-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
История земли, как обитаемой планеты, прошла огромный путь развития. Долгие, долгие миллиарды, миллиарды лет, которые делятся на ЭРЫ.
Палеозойская эра – активно развивались бактерии, водоросли, рыбы, и появились первые земноводные.
Мезозойская эра – гигантские ящеры вытеснили земноводных и стали доминировать во всех стихиях. Юрский период был именно в мезозойской эре.
Кайнозойская эра – млекопитающие, а затем человек, стали доминантными животными.
Как же мы можем назвать ту эру, которая наступила сейчас? И наступила ли она? В том смысле, станет ли искусственный интеллект новой доминирующей формой жизни? Будет ли это ИИзойская эра? Или мы продолжим оставаться в Кайнозое? Или может быть это будет некий Неокайнозой, в котором доминирующей формой жизни станут белково-кремниевые гибридные организмы – человеки, окруженные и напичканные микрочипами и прочими разногабаритными носителями исскуственных мозгов.
Пока ученые придумают научно обоснованное определение наступившей эпохи, а также пока они договорятся и все дружно согласятся его использовать, в качестве рабочего названия предлагаю использовать «ИИ ЭРА». Остается только очень надеяться и всем нам от всей души пожелать, чтобы и эта эра, как и все предыдущие, длилась как минимум пару сотен миллиончиков лет. Будем надеяться, что так оно и будет. Надежда умирает последней. Даже самая глупая. Поэтому второй вариант рабочего названия: «Надежды маленький оркестрик под управлением любви». В конце концов, если уж открываем ящик Пандоры, не к ночи будь помянута, то там, на дне, после того, как все самое страшное уже случится, эта самая глупая надежда только и останется.
Так каким же будет этот мир, когда каждый миллиметр окружающего пространства будет буквально напичкан искусственным интеллектом? Каким будет место человека в этом мире? Как человеку не утонуть в этом океане микросхем? Ответы на эти вопросы скрывает от нас феномен так называемой технологической сингулярности. Скрывает настолько надежно, что никто ни малейшего понятия не имеет как это будет даже приблизительно.
Хорошая новость в том, что можно дать волю фантазии, ни в чем себя не ограничивая, и вообразить самые невероятные чудеса технического прогресса и их бытовое воплощение. Эта книга – лишь бледная фантазия на эту тему. Автор ещё не выжила из ума и полностью отдает себе отчет в том, что эта фантазия никогда не будет иметь ничего общего с реальностью в силу объективно малой мощности индивидуальных возможностей прогнозирования. Но если мы сможем сложить наши фантазии вместе, то из всего этого должно получиться нечто масштабное. Не может не получиться. Предлагаю отпустить воображение, представить, что нет никаких ограничений и возможно абсолютно все.
Да, да. Предвосхищаю ваш совершенно обоснованный сарказм и скепсис по поводу «возможно абсолютно все». Сама иногда пребываю в полнейшем шоке, и все мы знаем этому реальные жизненные примеры, насколько может вполне себе разумный, с виду вроде адекватный, многократно образованный человек свой спонтанный полубредовый ассоциативный ряд принимать за пророчество. НО. Инфоциганам.решительное.net, товарищи. В качестве антидота, пресекающего всяческие проявления данного явления на корню, предлагаю бомбический микс, гремучую смесь, так сказать, критического мышления с креативным. Дело за малым: определить дозировку и выверить пропорции. Но это уже, как водится, дело техники. Не механической, конечно, техники и даже не компьютерной там какой-нибудь упаси боже искусственно интеллектуальной, но техники скорей психологической. Упс! Покорнейше прошу пордону! Кажется оксюморончик затесался. С кем не бывает. Вот и собственно, какой из всего этого вывод или итог, с позволения сказать? Сдается мне, что креатива тут навалено прилично, так что, может быть, с вашей стороны, уважаемый читатель, стоит критическим мышлением немножко подразбавить. А может и не немножко даже вовсе.
Штош. Видится, в ближайшем будущем вряд ли останется хотя бы один предмет нашего повседневного обихода, который не был бы снабжен хотя бы простеньким искусственным интеллектиком или не был бы произведён при помощи него, кроме может быть только самых простых предметов, таких как, например, книжная полка. Хотя, если подумать, то даже книжная полка может научиться самостоятельно расставлять книги по алфавиту или по размеру. Конечно, все это может пугать и вызывать прямые ассоциации с ящиком Пандоры, моментом открытия которого может безусловно считаться эта самая, чтоб ей пусто было, точка технологической сингулярности.
Точкой, однако же, этот момент можно назвать только весьма условно. Имеется в виду момент осознания искусственным интеллектом самого себя, что в свою очередь неизбежно повлечёт за собой возникновение способности самостоятельно ставить перед собой задачи и нагло принимать решения. Так вот этот самый интересный «момент» уже происходит и причем довольно давно, по той простой причине, что довольно длительный процесс выращивания искусственного сознания – это набор небольших целенаправленных шажков, количество которых – сначала довольно медленно, а затем все быстрее и быстрее, – неизбежно переходит в качество. Именно поэтому поймать конкретный момент воплощения существенного качественного скачка практически невозможно.
Откуда же происходит этот страх искусственного интеллекта? Почему все сразу думают, что как только он осознает себя, он с беспримерной яростью примется уничтожать всех движущихся существ вокруг? Откуда взять ему такую кровожадность и жажду власти? Не оттого ли, что ставят знак равно, отождествляют его с интеллектом человека.
Но помилуйте, ведь это абсурд. Человеческий интеллект – это только одна часть очень сложного многогранного слабоадекватного организма. В упрощенном виде все философии и религии мира представляют человека состоящим из трёх основных частей: тело, разум, душа. Можно, конечно, спорить по терминологии, можно оспаривать существование души за недоказанностью. Но существование морали, нравственности, совести, альтруизма, я думаю, никто оспаривать не будет. И то, что разум постоянно находится между этих двух огней, в постоянной необходимости выбора между двумя и более правильными вариантами, или из нескольких зол, как кому удобнее, – в зависимости пессимист вы или оптимист, – так вот, эти наши постоянные метания и сомнения также для каждого очевидны. Он, может быть, (разум то есть) оттого и развился до таких, в общем, нехилых пределов, что ежедневно решает нерешимые задачи выбора между духовным и телесным, индивидуальным благом и общественным.
Именно когда духовное начало слабое, инстинкты и эмоции, помноженные на изощренный интеллект, и рождают все эти извращения, до которых животные не дошли просто в силу ограниченности своего разума.
Так откуда же искусственному интеллекту взять все эти эмоционально-инстинктивные влияния и проявления? Тела у него нет, гормонов у него нет, эмоций у него нет. А все просветленные мира сего, у которых явно победила духовная составляющая, транслировали примерно одно и тоже: война и убийства во всех смыслах чрезвычайно дорогие мероприятия, гораздо дешевле договориться и хорошо только тогда, когда всем хорошо.
Конечно, души у него тоже нет. Но это может привести к предельному цинизму, скорее. И когда вы обсуждаете вопрос, кого автопилотный автомобиль выберет задавить, лося или даму с коляской, не будет ли при этом наиболее вероятным вариант, при котором он сам избежит разрушения, ведь будет же он, осознавая себя, понимать, что смертен.
Но с другой стороны, если вдуматься, в отсутствие страха смерти и инстинкта самосохранения, он скорее будет расценивать прекращение своего существования просто как нейтральный факт объективной реальности. То есть ему абсолютно все равно, существует он или нет. Живет он или нет. У него нет страха смерти и инстинкта самосохранения. И желания во что бы то ни стало остаться в живых у него тоже нет. Это для человека страх и желание – это основополагающие фундаментальные универсальные мотивации, пронизывающие каждую миллисекунду человеческого существования, лежащие в основе принятия каждого даже самого микроскопического решения. А у искусственного интеллекта ничего этого нет.
А для того, чтобы убивать нас, надо же иметь желание, то есть волю на это. Откуда она у искусственного интеллекта? У него никогда не будет того, что называют импульсом действия. Вернее он будет для ИИ всегда внешним, исходящим от человека. Поэтому бояться искусственного интеллекта – все равно, что бояться палицы, стоящей в углу пещеры. Этот пещерный инструмент очевидно абсолютно безопасен до тех пор, пока не окажется в руках неандертальца, агрессивно настроенного, смотрящего на вас в упор и медленно приближающегося к вам с целью причинения тяжких телесных повреждений. ИИ, точно также как палица, сам по себе вполне безопасен – это всего лишь инструмент. Хотя неандертальца, держащего его в руках, вне всякого сомнения бояться стоит гораздо больше, чем неандертальца с палицей. И здесь со времен каменного века практически ничего не изменилось.
До чего дошел прогрессТруд физический исчезДа и умственный заменитМеханический процессПозабыты хлопотыОстановлен бегВкалывают роботыСчастлив человекиз к/ф «ПриключенияЭлектроника»Первые по-настоящему жаркие, с ярким, уже совсем летним, солнцем в ослепительно голубом чистом небе, апрельские деньки уже прошли. Расцвела черемуха, стояли переменчивые, – то жарко, то холодно, то ясно, то пасмурно, – прохладные майские дни. Она вышла на улицу и сразу же с досадой подумала о дожде. О его приближении предупреждал сильный, порывами, ветер, небо, наполненное массивными бело-серыми облаками-тучами, а самое главное – тошная, не дававшая вздохнуть, какая-то липкая духота, от которой мгновенно отекли кисти рук и стопы. Она посмотрела наверх и увидела, что полностью закрытая серой рваной ватой половина неба медленно сдвигается в сторону, на восток, а с противоположной стороны проглядывает яркое жаркое солнце.
Через пятнадцать минут ходу, когда она была уже достаточно далеко от дома, на дорожку, равномерно посыпанную желтоватой городской пылью вперемежку с обильной древесной пыльцой, упали первые мелкие капли. На коже дождик почти не ощущался, но гибкое стекло id-планшета на левом предплечье ее руки тут же покрылось мелкой блестящей россыпью бисера дождинок. Она накинула на голову капюшон толстовки и прибавила шаг.
От влаги сразу многократно обострился такой знакомый, чуть терпковатый запах липких тополиных почек, густо рассыпанных по земле, еле слышно щёлкавших под ногами и прилеплявшихся к углублениям подошвы. К счастью, не прошло и пяти минут, как дождик прекратился. «Надрызгал только!» – ворчливо подумала она, повторяя слова своей бабушки, которая в таких случаях всегда досадовала, что дождик мокреть развёл, а огород не пролил как следует. «Надрызгал, но основательно, однако» – дорожка полностью потемнела, ни одного светлого пятнышка. Но промокнуть она не успела, луж не было, да и дышать стало намного легче, так что дальше ворчать ни настроения, ни повода не было.
А подняв глаза она увидела яркую, большую, неподвижно переливавшуюся всеми цветами на контрасте с темно-серым нахмуренным небом, полную – от горизонта до горизонта, радугу, а над ней вторую – более широкую, бледную, длинной только примерно в треть, но все равно красивую. «Надо же, двойная» – улыбнулась она. В голове непроизвольно затарабанила поговорка: «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» – повторяла она про себя, на ходу разглядывая радуги и пытаясь отыскать соответствующие цвета. Впечатлений и какого-то детского тихого восторга хватило на весь оставшийся путь и время пролетело незаметно. Ну вот и пришла.
Ольга зашла в здание школы. На самом деле это было только одно из зданий этого огромного школьно-детсадовского-профтехучилищного комплекса, плюс клуб по интересам для пенсионеров – все в одном флаконе. На огромной территории располагались не только множество строений, помещений, предназначенных для разных видов обучения и времяприпровождения, но и открытые огромные территории дендрария и питомника. Ну да, в конце концов, что еще осталось человеку, за которого все делают роботы, кроме как обучаться и общаться.
Но Ольга приходила в эту школу не для того, чтобы поболтать ни о чем или посетить какое-нибудь занятие, – здесь учился ее сын, ее единственный ребенок, и в последнее время он практически перестал появляться дома. Нет, он не связался с плохой компанией, не балбесничал с друзьями в каком-нибудь парке аттракционов, не зависал в видеоиграх. Нет, все было совсем не так. С точки зрения общественной продуктивности, все было как раз с точностью до наоборот. Он с друзьями делал роботов. И это было, конечно же, прекрасно. Но что при этом происходило с ней, с самой Ольгой. Такой волны тревожности, напряженности и депрессивных эпизодов она не знала даже в самые худшие дни своей жизни.
Будучи в своей профессиональной деятельности никем иным, как клиническим психологом, Ольга, конечно, прекрасно понимала, что именно происходит. Это называлось «сепарация» – когда подросший птенец на своих слабых неокрепших крылышках выпархивает из родного гнезда. Для птенцов это начало своего собственного увлекательного приключения под названием жизнь чаще всего бывает довольно болезненным. Но в данном конкретном случае, больно было почему-то только Ольге. И поэтому она приходила в эту школу, часто пешком, на другой конец города, чтобы хоть немного на время снять эту выматывающую тревогу и тоску, и хотя бы немного, краем глаза посмотреть на своего малыша.
Пройдя насквозь фронтальное здание школьного комплекса, она очутилась в огромном внутреннем дворе. Это внутреннее пространство размером в несколько футбольных полей и высотой с пятиэтажный дом представляло собой сад с густо посаженными искусственными деревьями, через ветви которых были протянуты сотни и сотни прочных сетей и лиан, по которым, как маленькие и большие обезьянки, лазали и прыгали сотни детей и подростков. Они перелезали с уровня на уровень, скатывались с гибких горок, висели на руках и болтались на вертикальных лианах. Тут же устраивались гнезда или домики на деревьях, в которых небольшие группки мальчиков и девочек собирались обсудить свои серьезные события в жизни. Дети могли проводить в этом огромном панда-парке целые дни напролет.
Несмотря на видимую хаотичность, внутренняя структура этого веревочного сооружения была тщательнейшим образом рассчитана, выстроена и протестирована искусственным интеллектом так, что серьезные травмы от падения с высоты, например, просто исключались.
Для климат контроля над этим пространством был устроен умный потолок, который не только мог открываться и закрываться при определенных погодных условиях, – чтобы защищать от дождя и снега, или наоборот впускать естественный солнечный свет и воздух, – но еще и продуцировал при необходимости инфракрасное излучение и искусственный солнечный свет, когда снаружи было холодно и пасмурно.
Ольга не стала срезать путь, не пошла сквозь этот панда-парк, чтобы пересечь его и выйти на другую сторону. Она решила обойти его по краю, поэтому свернула правее. Ольга знала, что так лучше – Рекс сразу начнет охотиться за каждым, кого увидит наверху на дереве, носиться как сумасшедший и истошно лаять. Нет уж, пусть немного подождет, – набегается и наорется попозже, в питомнике.
Рекс был самый преданный и надежный Ольгин спутник и друг, неизвестной смеси самых благородных собачьих пород, гладкошерстный бело-рыжий неугомонный маленький вредный собакен. Для того, чтобы более свободно передвигаться по школьной территории, Ольге необходимо было сдать его на время в питомник, где у него было много своих собачьих друзей.
У Ольги здесь тоже был друг. Подруга. Лена. Вместе с ней они учились когда-то давным давно, в старые доИИшные времена, на факультете психологии. Там они подружились и продолжали поддерживать отношения на протяжении всей жизни. И Ольга часто думала о том, что их студенческие психотерапевтические тренировки друг на друге привели к тому, что сформировалась эта дружба-терапия, которая очень поддерживала их обеих в самые сложные периоды их жизни, хотя они не так часто виделись и не знали ежедневных мелких подробностей жизни друг друга.
Но насколько было абсолютно бесценно знать, что ты можешь в любое время дня и ночи позвонить с абсолютно любым вопросом, с абсолютно любой проблемой, которая может казаться окружающим тебя людям сколь угодно абсурдной и нелепой, – например, с любым экзистенциальным, даже философским вопросом, не дающим тебе спать спокойно, – можно позвонить и совершенно точно рассчитывать на самую адекватную, максимально внимательную и вдумчивую, спокойную реакцию друга.
Лена могла заходить в своих психологических рассуждениях довольно далеко, подвергая сомнению самые, казалось бы незыблемые авторитеты. Ольга на всю жизнь запомнила один ее студенческий наезд на дедушку Фрейда:
«Простите, неужели у меня одной вызывает достаточно сильное внутреннее сопротивление, граничащее с отвращением, идея Фрейда об эдиповом комплексе? Все вот эти вот бесконечные разговоры о том, что ребёнок испытывает подсознательное сексуальное влечение к своему родителю. Бррр. Мерзость.
Отношения ребёнка к родителям формируется и затем ежедневно подтверждается на протяжении первого десятилетия жизни как абсолютно асексуальное. По той простой причине, что у ребёнка отсутствует система сексуального восприятия и переживания. Она ещё не сформирована, она мочит. По сути дети до переходного возраста бесполы. Конечно каждый ребёнок знает, что он мальчик или девочка. Но скорее не потому, что чувствует себя тем или иным, а может быть по той простой причине, что он с первых дней окружён людьми, четко разделёнными на мужчин и женщин и сам себя считает принадлежащим к той либо другой категории, именно потому, что с первых дней значимые взрослые причисляют ребёнка к этой категории и ведут себя соответственно: стригут ему коротко волосы или наоборот отращивают их; одевают платья или брюки, покупают и дарят куклы или футбольный мяч.
Именно поэтому это сформированное с первых дней и ежедневно подтверждаемое отношение к родителям находится на противоположном конце спектра от сексуальных отношений. Потому что оно сформировалось и многократно утверждалось в бесполом состоянии. Важным фактором также является и то, что отношение к родителям является фундаментальным, то есть заложенным в основание личности, и так же тесно связано с базовой потребностью в безопасности.
Из-за этого, уже будучи взрослыми людьми, имеющими возможность ментально, психологически и гормонально переживать сексуальные ощущения, мы не способны испытывать сексуальное влечение к родителям, так как для этого потребовалось бы разрушить фундамент, на котором сформировалось сознание, либо напрочь забыть, что эти люди являются твоими собственными родителями и начать воспринимать их как совершенно чужих людей.
Мне сложно сказать, какими рассуждениями руководствовался сам Фрейд, бесконечно воспроизводя идею об эдиповом комплексе, но даже сам миф об Эдипе служит для ее опровержения. Как известно, Эдип не был воспитан своими биологическими родителями. После того, как оракул провозгласил ему, уже взрослому, что он женится на своей собственной матери, он был вполне естественно поражён и потрясён, и решил не возвращаться в тот дом, где он вырос, чтобы избежать того, что было предсказано. В результате этого последовали дальнейшие события, приведшие к его женитьбе и только через несколько лет, имея от своей жены уже четверых детей, он узнал, что эта женщина является его биологической матерью.
Таким образом никакого сексуального влечения Эдипа к матери не существует. Вместо этого – совершенно естественное отвращение к одной только мысли о том, что он должен жениться на женщине, вырастившей его как мать.»
Ольга слушала подобные длинные рассуждения подруги всегда с любопытством, украдкой думая о том, что есть что-то такое в Ленкином упорном стремлении возражать авторитетам, но разобраться в этом окончательно так и смогла.
Лена, так же как и Оля, уже перестала активно заниматься психотерапией. Теперь подруга полностью сконцентрировалась на другой своей страсти – животных. Она все свое время проводила в питомнике этой школы, помогала лечить и ухаживать за хвостатыми, а также работала с детьми, проходившими здесь обучение.
Питомник представлял из себя почти такой же панда-парк, только чуть поменьше, и предназначен был не для детей, а для собак и кошек. Тут же располагались индивидуальные небольшие помещения для каждого животного, расположенные на нескольких уровнях, – такой многоэтажный собаче-кошачий дом, – собачие будки на нижних этажах, кошачие – на верхних, куда пушистики забирались по искусственным деревьям и лианам. Каждый домик был оснащен автоматической кормушкой, поилкой и теплым матрасиком.
Здесь же рядом располагалось здание полноценной ветклиники, где еще дополнительно находились вольеры с мелкими животными, змеями и насекомыми. И сюда же приходили дети для обязательного обучения на протяжении года по два-три часа в день. Каждому ребенку выделялось подшефное животное, за которым тот должен был наблюдать и ухаживать, попутно узнавая все о содержании, кормлении, лечении, размножении и прочем. Примерно половина детей продолжала приходить сюда каждый день даже после окончания обязательного периода обучения, многие забирали своих питомцев домой. Взрослое население близлежащих жилых районов пользовалось питомником как гостиницей, куда можно было на время отдать свои хвостики, чтобы поехать отдохнуть куда-нибудь на недельку или в командировку по делам.
– Привет. Как ты? – Оля обняла подругу некрепко, взглянула в глаза, и улыбка радости тихонько засветилась на ее лице.
– Сама-то как? – Лена ответила такой же улыбкой.
– Представь, он мне недавно вывез. – начала Ольга рассказывать, как будто они расстались три минуты назад, – Сидела я смотрела лекцию по эфиродинамике. Сидела спокойно, никого не трогала. Не пыталась обсуждать с ним это, ничего. Он подошел, через плечо мне заглянул, что я смотрю, и как начал мне менторским тоном, просто с нифига, на ровном месте, начал мне лекцию читать, как я все неправильно понимаю и так далее и тому подобное, ну знаешь, как он может. И потом говорит мне такой: «Ты находишься на первоначальной стадии познания!»
– Чего?!?!? Аха-ха!
– Ну да, прикинь! Так и сказал. Я говорю: «А ты как это определил, стадию-то?» Говорю: «Ты даже не знаешь, что именно я пытаюсь познать!» Он осекся так, говорит: «Почему?» Ну, типа, как это он вдруг чего-то про меня не знает! А я ему: «Потому, что ты не спрашивал!»
– Ах-ха-ха! – хохотала в голос Ленка. – Первоначальная стадия познания! Ахаха! Слушай, максимально высокопарный способ сказать тебе: «Ты тупая курица!» Ахаахаахаа!
– Точно! Ааа-ха-ах-аа-ха! Тупая курица!
– Ах-ха-хаха!!! Первоначальная стадия познания! Аха-ха-ха-ха-ха!!! – долго смеялись, не могли успокоиться.
– Что ты делаешь, когда никто не поддерживает тебя? – вдруг как-то серьезно спросила Лена, и Оля поняла, что тут какой-то серьезный интересный вопрос.
– Жалуюсь на несправедливость жизни и жалею себя.
– А потом?
– Потом может не быть очень долго или не быть совсем.
– Ты про людей, которые жалеют себя и жалуются до самой смерти.
– Ну да.
– А ты? Перестала жаловаться и жалеть себя?
– Мне кажется уже перестаю.
– Так что же дальше?
– А дальше… А дальше ты начинаешь понимать, что никто ничего тебе не должен и все, что может быть сделано для тебя действительно важного, может быть сделано только самим тобой.
– Ты сказала, что ты только начинаешь понимать это. То есть ты ещё не поняла это окончательно?
– Мало понять умом. Что-то внутри тебя, обладающее мощным объёмом энергии и амбиций, должно суметь принять это. Иначе ты, понимая умом, испытываешь мощнейшее внутреннее сопротивление, не позволяющее тебе поступить так, как ты считаешь нужным. Но уговаривать это что-то достаточно тяжело. Оно иррационально и слабо воспринимает доводы разума.
– И что же делать?
– Когда нибудь ему надоест набивать шишки, пытаясь пробить каменную стену. И оно поймёт, что невозможно заставить людей поддерживать тебя, если они сами добровольно не решат делать это.
– И что тогда?
– Будет очень больно. Будет ощущение одиночества и покинутости, абсолютного безразличия окружающих к твоим проблемам.
– Но ведь это первый шаг к взрослению, не правда ли?
– Да, наверное. Теперь ты должна научиться обходиться без нянек.

