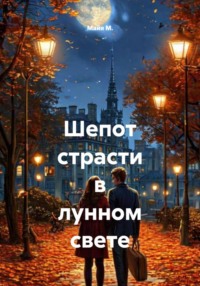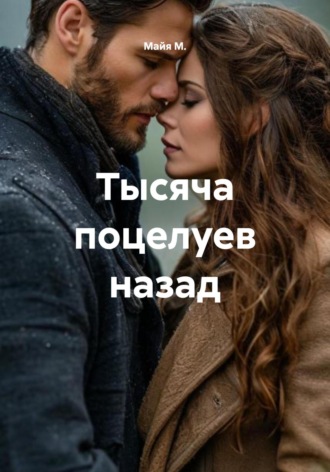
Полная версия
Тысяча поцелуев назад

Майя М.
Тысяча поцелуев назад
Глава первая: Осколки хрустального дня
Воздух в выставочном зале был густым и прохладным, пахшим краской, лаком и деньгами. Под высокими сводчатыми потолками, украшенными лепниной позапрошлого века, неспешно бродили избранные гости вернисажа. Их приглушенные голоса, смех, звяканье бокалов – все это сливалось в единый, привычный для Софии гул. Она стояла в стороне, прислонившись к холодной стене, и наблюдала. Ее собственная выставка, ее триумф. Дипломантка престижных конкурсов, востребованная художница, чьи работы уже сейчас, в день открытия, обзаводились красными точечками на табличках «Продано». Она должна была бы чувствовать головокружение от успеха, пьянящий восторг. Но внутри была лишь знакомая, выскобленная до блеска пустота.
Десять лет. Ровно десять лет назад в этот самый день, только тогда он был наполнен не майским, а уже осенним, резким солнцем и ветром, ее жизнь раскололась надвое. Как хрустальная ваза, выскользнувшая из рук. Осколки потом собирала по крупицам, резалась, склеивала, но прежней формы вазе уже не вернуть. Она осталась функциональной, даже красивой в своей новой, причудливой конфигурации, но это была уже не та ваза.
Ее взгляд скользнул по центральной картине экспозиции – большому полотну под названием «Тысяча поцелуев назад». Ее личный тайный шифр. Никто, даже самые проницательные критики, не понимал истинного смысла. Они говорили о «темпоральной перцепции», о «деконструкции памяти», о «любви как о временной аномалии». София едва улыбалась в ответ. На полотне была изображена пара, слившаяся в поцелуе, но их фигуры были написаны так, будто состояли из мириад отслоившихся мгновений, как бы видных одновременно. Фоном служили размытые городские огни и огромные, невероятно детализированные часы, стрелки которых застыли навсегда.
«Максим», – прошептала она мысленно, и это имя обожгло изнутри, как прикосновение раскаленного металла.
Он появился тогда, в ее восемнадцать, словно порыв шквального ветра, сметающий все на своем пути. Не вписывался в размеренный мир отличницы Софии, дочери профессоров, с ее планами на академическую живопись и предсказуемую жизнь. Максим был другим. Он учился в политехе на инженера, но душа его была у поэтов и бродяг. Он мог в полночь позвонить ей и сказать: «Выходи, я под окном. Хочу показать тебе, как Луна отражается в луже на заброшенном заводе». И она выходила. Вместе они встречали рассветы на крышах, спорили до хрипоты о Кафке и Тарковском, путешествовали автостопом к морю, и там, на пустынном пляже, под вой ветра, он впервые сказал ей: «Люблю». Это было не слово, а обет. Целая вселенная, рожденная в одно мгновение.
Он целовал ее так, будто пытался вдохнуть в нее саму жизнь. Говорил, что ее губы пахнут красками, скипидаром и бесконечностью. «Тысяча поцелуев, – смеялся он, – и мы станем бессмертными». Они считали их, эти поцелуи. Шутя. На двадцать третьем она подарила ему свою невинность. На сотом они сняли свою первую общую комнатушку в коммуналке с протекающей крышей. На пятисотом он сделал предложение, неловко опустившись на одно колено посреди парка, держа в руке не кольцо, а странный витой камень, который нашел на берегу. «Он уникален, как ты. Как наша любовь», – сказал он тогда. Она надела камень на шнурок и не снимала никогда.
А потом был тот день. Десять лет назад. Они поссорились. Из-за ерунды, из-за ее ревности к однокурснице, с которой он работал над проектом. Глупый, жаркий скандал. Она кричала что-то об ответственности, о том, что он слишком ветрен. Он молчал, сжав кулаки, а потом резко вышел, хлопнув дверью. Его последние слова, оброненные уже на лестничной клетке, были: «Остынь, Соня. Я вернусь. Мы все обсудим. Я люблю тебя».
Он не вернулся.
Сначала она злилась. Потом испугалась. Потом начался ад. Его телефон не отвечал. В общежитии сказали, что он не ночевал. Друзья разводили руками. Через три дня пришла полиция. Максима нашли на заброшенной стройке. Избитого, в коме. Рядом валялась его сумка с чертежами и старый, потрепанный том стихов Мандельштама – тот самый, что она ему подарила. Версия – ограбление. Подозреваемых не нашли.
Она жила в больничных коридорах. Дышала спертым воздухом, пахшим антисептиком и страхом. Держала его холодную, неподвижную руку и шептала ему на ухо все те слова, что не успела сказать. Она рассказывала о своих картинах, читала вслух его любимые стихи, напевала их общие песни. Врачи разводили руками. «Шансы минимальны, девочка. Готовься к худшему».
А потом его перевели в другую больницу, подальше от центра, и через месяц его мать, сломленная, седая женщина, попросила Софию оставить их в покое. «Ты напоминаешь ему о той жизни, о которой он, возможно, мечтает и не может вернуться. Это мука для него. Уйди. Позволь нам, родным, ухаживать за ним. Пожалуйста». Это была просьба, произнесенная с такой бездонной болью, что София не смогла отказать. Она оставила у постели Максима тот самый витой камень на шнурке и ушла. С тех пор – ни звонка, ни письма. Словно он испарился. Словно его и не было.
Сначала она ждала. Каждый день. Потом через год попыталась найти. Но больница сменила название, его мать переехала, а старые друзья разбрелись по жизни. Максим стал призраком. Исчезнувшим без объяснений. И с годами ее боль и тревога трансформировались в нечто иное – в тихую, уверенную обиду. Он ее бросил. Бросил, когда она была так ему нужна. Ушел в свой мир, оставив ее в этом, с разбитым сердцем и невыносимой тяжестью неизвестности.
«София, дорогая! Поздравляю! Это грандиозный успех!»
Ее вывел из оцепенения бархатный голос Артема, галериста и ее импресарио. Высокий, ухоженный мужчина лет сорока, в идеально сидящем костюме. Он подошел, держа два фужера с шампанским.
«Ты выглядишь потрясающе. И картина…» – он кивнул в сторону центрального полотна, – «просто гипнотизирует. Все о ней говорят».
София механически взяла бокал. «Спасибо, Артем. Это твоя заслуга тоже».
«Пустяки. Я лишь открываю миру таланты. А ты, моя дорогая, – бриллиант. Правда, немного отстраненный сегодня. Волнуешься?»
«Устала, наверное», – соврала она, делая крошечный глоток. Игривые пузырьки щекотали небо, но вкуса она не чувствовала.
Артем смотрел на нее с тем смешанным выражением деловой заинтересованности и личной симпатии, которое она давно в нем уловила. Он был надежен, предсказуем, безопасен. Он предлагал ей тот самый мир, от которого когда-то сбежала с Максимом. И именно это ей и было нужно. Чтобы больше никогда не летать так высоко и не падать так больно.
«Не забывай, у нас ужин с коллекционером из Милана в восемь. Он в восторге от твоей «Тысячи…». Интересуется, не желаешь ли ты продать ее в частную коллекцию. Я, конечно, сказал, что маловероятно, но…»
«Нет», – резко оборвала его София. Слишком резко. Артем удивленно приподнял бровь. «Прости. Я имею в виду… эта картина не для продажи. Никогда».
«Понятно», – кивнул он, но в его глазах мелькнуло легкое непонимание. «Твое право. Тогда просто ужин. Я заеду за тобой в семь тридцать?»
Она кивнула, чувствуя, как накатывает волна усталости. Ей нужно было выбраться отсюда, остаться одной. Подышать. Забыть.
«Мне нужно… свежий воздух», – пробормотала она и, не дожидаясь ответа, поставила бокал на поднос проносившемуся мимо официанту и направилась к выходу.
Город встретил ее вечерней прохладой. Майский воздух был сладок от цветущих каштанов. Она закуталась в легкое пальто и пошла, не глядя по сторонам, куда глаза глядят. Ноги сами несли ее по знакомым маршрутам, тем самым, что когда-то были исхожены вдоль и поперек. Парк, где он сделал предложение. Набережная, где они впервые поцеловались. Кафе, где она подрабатывала официанткой, а он писал свои чертежи за угловым столиком, украдкой рисуя ее портреты на полях.
Она шла, и призраки прошлого танцевали вокруг нее, прозрачные и беззвучные. Вот он, молодой, смеющийся, бежит к ней, распахнув объятия. Вот они сидят на скамейке, и он, прижавшись к ее плечу, читает наизусть: «Я к губам подношу эту темноту…» А вот он уходит, отворачивается, его спина растворяется в толпе.
Слезы текли по ее щекам, но она не обращала на них внимания. Это было частью ритуала. День памяти. День скорби по тому, кто, как она думала, просто сбежал от ответственности, от любви, от нее.
Она оказалась у маленького, уютного кафе неподалеку от своей мастерской. Не то самое, из юности, но очень похожее. Здесь было тихо, пахло свежей выпечкой и кофе. Здесь она иногда работала над эскизами. Она толкнула тяжелую деревянную дверь и вошла внутрь.
Звонок над дверью прозвенел, извещая о новом посетителе. Было уже довольно поздно, посетителей почти не оставалось. За стойкой суетился бармен, а в дальнем углу, у окна, сидел одинокий мужчина, сгорбленный над книгой.
София выбрала столик в противоположном конце зала, спиной к этому мужчине. Она заказала у бармена двойной эспрессо, достала блокнот и попыталась сделать несколько набросков. Линии не слушались, выходили кривыми, злыми. Все было не то.
И вдруг она почувствовала на себе пристальный взгляд. Тот самый, который невозможно игнорировать – тяжелый, изучающий. Она медленно обернулась.
Мужчина из угла смотрел на нее. Свет от абажура падал на него неравномерно, оставляя часть лица в тени. Он был худой, очень бледный, словно много лет не видевший солнца. Волосы его, когда-то густые и темные, теперь были коротко острижены, и в них она заметила седину. На вид ему можно было дать лет сорок, хотя черты лица… черты лица были до боли знакомыми. Это было лицо, которое она видела каждый день в своих снах и на своих холстах. Но состаренное, изможденное, с глубокими морщинами вокруг рта и с глазами, в которых плескалась бездонная, первозданная усталость.
Сердце Софии замерло, а потом рванулось в бешеной скачке, застучав в висках, в ушах, во всем теле. Кровь отхлынула от лица, и мир на секунду поплыл.
Это был Максим.
Не призрак. Не фантом. Плотская, реальная плоть и кости. Он был жив. Он сидел здесь, в нескольких метрах от нее, и смотрел на нее с тем же немым потрясением, что и она.
Он медленно, с невероятным усилием, поднялся с места. Движения его были скованными, неуверенными, будто он заново учился управлять своим телом. Он сделал шаг к ней, потом другой. Он был одет в простые, почти бедные одежды – поношенные джинсы и темную куртку, сидевшую на нем мешковато.
Они стояли друг напротив друга, разделенные всего парой метров, но казалось, что между ними – пропасть в целое десятилетие. Звуки кафе – шипение кофемашины, тихая музыка – куда-то исчезли. Осталась лишь оглушительная тишина.
Он первым нарушил ее.
«Соня?» – его голос. Голос, который она слышала тысячу раз в своих фантазиях. Но он изменился. Стал глубже, тише, в нем появилась хрипота, будто его давно не использовали. В этом одном слове – ее имени – звучала такая вселенская надежда и такой же вселенский ужас, что у нее перехватило дыхание.
Она не могла вымолвить ни слова. Она лишь кивнула, чувствуя, как дрожь пробирается от кончиков пальцев по всему телу.
«Я… я думал, ты никогда…» – он попытался что-то сказать, но слова застряли в горле. Он сглотнул, и она увидела, как напряглись мышцы на его шее. Он поднял руку, медленно, будто преодолевая невидимое сопротивление, и потянулся к ней, но не дотронулся, а лишь провел ладонью по воздуху в сантиметре от ее щеки, словно боясь, что она рассыплется.
«Где ты был?» – наконец вырвалось у нее. Голос ее был хриплым шепотом, полным слез, которые еще не пролились. «Где ты был все эти годы, Максим?»
Он опустил руку. Его глаза, эти знаменитые, ясные глаза, в которых раньше плясали чертики, теперь смотрели на нее с такой болью, что стало физически невыносимо.
«Я… я был здесь, Соня. Все это время. Я был здесь», – он покачал головой, и в его взгляде появилось что-то похожее на растерянность. «Я не мог… я не знал, как тебя найти. Мама сказала… она сказала, что ты уехала. Далеко. Что у тебя новая жизнь. Что ты не хочешь… меня видеть».
София почувствовала, как почва уходит из-под ног. Какая мама? Какое «не хочу видеть»? Она всегда, всегда хотела его видеть! Она искала его!
«Что ты несешь?» – ее голос окреп, в нем зазвучали стальные нотки гнева. Все эти годы копившаяся обида, злость, боль – все это поднялось комом в горле. «Ты исчез! Ты просто взял и исчез! Меня выгнали от твоей постели! Я звонила, писала, искала тебя! А ты… а ты что, лежал все эти десять лет под одеялом и боялся позвонить? Нашел кого-то другую? Решил, что я тебе не нужна?»
Она почти кричала, не замечая, что бармен и пара оставшихся посетителей смотрят на них. Ее трясло.
Максим слушал ее, и его лицо исказилось гримасой невыносимой муки. Он смотрел на нее, будто видя впервые. Будто каждая ее фраза была ножом.
«Соня… – он произнес ее имя с такой безысходностью, что у нее сердце сжалось в ледяной ком. – Я не нашел другую. Я не боялся позвонить. Я…» Он замолчал, закрыл глаза на секунду, собираясь с силами. Потом открыл их и посмотрел на нее прямо, в упор. И в его взгляде она прочитала страшную, невозможную правду, которую ее мозг отказывался принимать.
«Я не мог позвонить, Соня. Я не мог прийти. Я не мог ничего. Я все эти десять лет… я был в коме».
Тишина, которая воцарилась после этих слов, была оглушительной. Она вобрала в себя все звуки мира, всю ее ярость, всю боль, все недоумение. София смотрела на него, и ее разум отказывался верить. Кома? Десять лет? Но как? Почему она ничего не знала? Почему его мама сказала…
И тут ее взгляд упал на его шею. Из-под ворота простой футболки выглядывал тонкий кожаный шнурок. И на нем висел тот самый, знакомый до боли, витой камень.
Он был не в коме. Он не мог быть в коме. Это была какая-то ужасная, изощренная ложь.
«Врешь, – прошептала она. – Ты врешь. Зачем ты врешь?»
Он покачал головой, и по его бледным щекам медленно покатились слезы. Он не пытался их смахнуть.
«Я не вру, Соня. Я очнулся… чуть больше года назад. Реабилитация… это был ад. Я заново учился ходить, говорить, есть. Все это время я думал только о тебе. Я звонил на наш старый номер – он не работал. Приезжал по старому адресу – там живут другие люди. Никто не знал, где ты. Мама… она отказывалась говорить о тебе. Говорила, что ты счастлива без меня. Что я должен тебя отпустить. Но я… я не мог».
Он сделал шаг ближе. Теперь она могла разглядеть каждую морщинку, каждую черточку его измученного лица. Увидела шрам на виске, почти скрытый короткими волосами. Увидела глубину в его глазах – глубину, в которой плавали обломки целого десятилетия.
«А сегодня… я впервые оказался в этом районе. Решил зайти в кафе… и увидел тебя. Словно… словно ты сошла с одного из моих снов. Ты почти не изменилась, Соня. Ты все так же прекрасна».
София стояла, не в силах пошевелиться. Ее мир, тщательно выстроенный за десять лет, мир, в котором она была брошенной, но сильной, мир, в котором Максим был предателем, – этот мир рухнул в одно мгновение. Все эти годы он был здесь, в том же городе, прикованный к больничной койке, блуждавший в темноте, а она… она ненавидела его. Она рисовала картины, в которых он был добровольно ушедшим, она строила свою жизнь на фундаменте из обиды.
Ее ноги подкосились. Она бы упала, но он успел сделать последний шаг и подхватить ее. Его объятия были неуверенными, слабыми, но в них была та самая, давно забытая безопасность. Он пах не скипидаром и ветром, как раньше, а лекарствами, мылом и чем-то новым, горьким – запахом утраченного времени.
Она расплакалась. Тихо, беззвучно, прижимаясь лицом к его груди, чувствуя, как кости его проступают сквозь тонкую ткань куртки. Она плакала за все эти годы – за его боль, за его одиночество, за свою слепоту, за ту жестокую ошибку, что разлучила их.
«Прости, – шептал он, целуя ее волосы. – Прости, что заставил тебя ждать. Прости, что не нашел тебя раньше».
Они стояли так, посреди полупустого кафе, двое людей, разбуженных из десятилетнего кошмара. Тысяча поцелуев остались в том, прошлом, хрустальном дне. А впереди была лишь одна, первая слеза настоящего, горькая и очищающая, и тишина, в которой медленно, с невероятным трудом, начинала рождаться новая жизнь. Жизнь после комы.
Глава вторая: Глубокая заморозка времени
Они сидели все в том же кафе, за столиком в углу, где теперь царила сюрреалистичная тишина, нарушаемая лишь приглушенными городскими звуками за окном и редкими шагами бармена, который, бросив на них понимающий взгляд, намеренно отдалился, предоставив им полное уединение. Между Софией и Максимом лежала пропасть, но теперь это была не пропасть неведения, а бездна взаимной, оголенной боли.
София все еще дрожала, мелкой, неконтролируемой дрожью, будто ее тело находилось в состоянии шока, которое разум еще не успел осознать. Она смотрела на него, впитывая каждую деталь, каждое изменение. Его руки, лежавшие на столе, – длинные, тонкие пальцы инженера, когда-то такие сильные и уверенные, теперь были почти прозрачными, с синеватыми прожилками вен и легким, едва заметным тремором. Он держал стакан с водой, который ему принес бармен, и София видела, как ему требуется невероятное усилие, чтобы удержать его ровно.
«Расскажи мне все, – тихо попросила она, и ее голос прозвучал хрипло от слез. – С самого начала. Все, что помнишь».
Максим отпил глоток воды, и она заметила, как напряглись мышцы его горла при глотании – простой, автоматический процесс, дававшийся ему с видимым трудом.
«Я помню… очень мало. И очень много, но это другое… это воспоминания изнутри», – начал он, глядя куда-то мимо нее, в прошлое. «Наш скандал… я помню. Помню, как ты кричала. Помню, как больно было слышать твои слова. Я вышел, мне нужно было остыть. Просто пройтись. Думал, дойду до набережной, посижу на холоде, и все встанет на свои места».
Он замолчал, собираясь с мыслями. Его речь была медленной, с паузами, будто он выуживал слова из густого, вязкого тумана.
«Я пошел через ту самую промзону, коротким путем. Было темно. Я… я не помню самого удара. Только резкий, ослепительный взрыв боли в голове, и все… потом темнота. Не такая, как ночью. А полная, абсолютная. Без снов, без мыслей. Просто… ничто».
София сжала под столом руки в кулаки, чтобы не закричать. Она представила его, одного, в темноте, избитого, брошенного. И все эти годы она злилась на него.
«А потом… первое ощущение. Это был звук. Приглушенный, далекий, как сквозь толщу воды. Чей-то голос. Женский. Он говорил: «Дыши, Максим, дыши». Я не понимал, кто это, и почему мне нужно дышать. Я пытался открыть глаза, но не мог. Я пытался пошевелиться – ничего. Я был заперт. Внутри себя. Как в стеклянном гробу. Я видел, слышал обрывки, но не мог среагировать. Не мог дать знать, что я здесь».
Он говорил монотонно, без эмоций, словно рассказывал не свою историю, а чужую, прочитанную в плохом романе.
«Я слышал голос мамы. Она читала мне газеты. Говорила о политике, о погоде. Я пытался крикнуть: «Где Соня? Почему ее нет?» Но мои губы не слушались. Ничего не слушалось. Потом… потом был только этот голос. Мамин. И иногда врачей. Они говорили о прогнозах, о шансах. Слово «вегетативное состояние»… я его ненавижу. Я слышал, как мама плакала. И я плакал внутри. От бессилия. От ярости».
«Почему… почему она сказала мне уйти?» – прошептала София, и в ее голосе снова запрыгали злые нотки. «Я пришла к тебе в палату каждый день! Каждый день, Максим! Я держала твою руку, я говорила с тобой! Я читала тебе Мандельштама! Ты… ты не слышал меня?»
Максим посмотрел на нее, и в его глазах вспыхнула такая надежда, такая жадность, что ей стало страшно.
«Ты… ты была?» – его голос сорвался на шепот. «Я… я не помню. Были моменты, обрывки… чей-то голос, который я не мог опознать… он был тихий, ласковый… но мама сказала… она сказала, что после того, как тебя попросили уйти, ты больше не приходила. Что ты уехала в другой город, поступила в академию, вышла замуж…»
София вскочила с места, едва не опрокинув стул. Ее тело напряглось, как струна.
«Выйти замуж?» – она почти выкрикнула это слово. «Она сказала тебе, что я вышла замуж?»
«Да, – просто ответил Максим, глядя на нее с бесконечной усталостью. – Год назад, когда я уже более-менее научился говорить, я спросил о тебе первым делом. Она сказала, что у тебя все хорошо. Что ты стала известной художницей. И что ты замужем. Что ты счастлива. Она сказала… что я должен быть сильным и оставить тебя в покое. Что мое появление разрушит твою жизнь».
София медленно опустилась обратно на стул. Весь мир перевернулся с ног на голову. Не Максим бросил ее. Его мать… его собственная мать украла у них десять лет. Из лучших побуждений? Из жалости к сыну? Из ревности? София не знала. Но этот поступок казался ей чудовищным.
«Я не замужем, Максим, – тихо сказала она. – У меня никого не было. Все эти годы… все эти годы я думала, что ты просто ушел. Что ты не захотел быть со мной. Я ненавидела тебя за это. Я строила свою жизнь на этой ненависти».
Теперь настала его очередь смотреть на нее с немым потрясением. Он моргнул, и по его щеке снова скатилась слеза.
«Ты… ненавидела меня?»
В его голосе было столько боли, что София инстинктивно потянулась через стол и накрыла его руку своей. Его пальцы были ледяными. Она сжала их, пытаясь согреть.
«Я думала, что ты бросил меня. Мне было больно. А когда больно, легче ненавидеть, чем смириться с беспомощностью».
Он перевернул ладонь и сжал ее руку с той самой осторожной, неуверенной силой, что пугала и радовала ее одновременно. Это было первое осознанное прикосновение за десять лет.
«Я никогда бы не бросил тебя, Соня. Никогда. Ты была… ты есть моим воздухом. В той темноте, иногда, в редкие моменты яростной борьбы, я вспоминал твое лицо. Оно было маяком. Единственной точкой отсчета в небытии».
Они сидели так, держась за руки, словно двое уцелевших после кораблекрушения. Бармен, парень лет двадцати пяти, с пирсингом в брови, подошел и несмело спросил:
«Все… все в порядке? Может, еще чего?»
София кивнула, стараясь улыбнуться. «Два кофе, пожалуйста. И… что-нибудь сладкое».
Они оба нуждались в глюкозе, в якоре реальности.
Когда бармен ушел, Максим спросил, все так же глядя на их сплетенные пальцы:
«А что… что ты все эти годы? Картины? Мама сказала… ты художница».
«Да, – кивнула София, чувствуя странный привкус горечи на языке. – Я художница. Сегодня… сегодня у меня вернисаж. Моя персональная выставка».
Он поднял на нее глаза, и в них мелькнула тень того старого, живого любопытства.
«Правда? Как она называется?»
София почувствовала, как краснеет. Сказать ему? Сейчас?
«Она… она называется «Хроники забытых дней», – соврала она, уклоняясь. Не сейчас. Не может она сказать ему про «Тысячу поцелуев назад». Это было бы слишком жестоко по отношению к ним обоим.
«Я горжусь тобой, – тихо сказал Максим. – Я всегда знал, что у тебя получится».
Его слова ранили сильнее, чем любая критика. Он гордился ею. Тем, что она достигла успеха в мире, который существовал только потому, что его в нем не было.
«А ты?» – спросила она, желая перевести тему. «Реабилитация? Как… как это?»
Он тяжело вздохнул.
«Это… унизительно. Когда твое собственное тело отказывается тебя слушаться. Когда ты, взрослый мужчина, заново учишься держать ложку. Ходить. Теряешь равновесие от резкого звука. Память… память – это отдельный ад. Она возвращается обрывками. Я помню, как мы с тобой ели мороженое на набережной, но могу забыть, что ел на завтрак сегодня. Я помню формулы из института, но иногда забываю, как называется вот эта штука», – он показал на салфетницу.
Он говорил, и София слушала, завороженная, ее сердце разрывалось от сострадания. Она представляла его – гордого, независимого Максима, который когда-то одним прыжком взбирался на трехметровый забор, – смиряющимся с тем, что медсестра помогает ему одеться.
«Я живу с мамой, – продолжал он. – В новой квартире. Старую она продала, чтобы оплачивать частные клиники и реабилитацию. Я… я пытаюсь найти работу. Но кто возьмет на работу человека, который выпал из жизни на десять лет? Который устает после получаса за компьютером? Я изучаю программирование. Все изменилось, технологии… я будто пришелец из прошлого».
В его голосе звучала горечь. Горечь человека, которого мир оставил позади.
Принесли кофе и кусок шоколадного торта. Максим взял свою чашку двумя руками, осторожно поднес к губам. София наблюдала за этим простым действием, и ему стало неловко.
«Прости. Я еще не очень…»
«Ничего, – быстро перебила она его. – Все в порядке».
Они пили кофе молча. Тишина между ними уже не была напряженной, она стала тяжелой, насыщенной невысказанным.