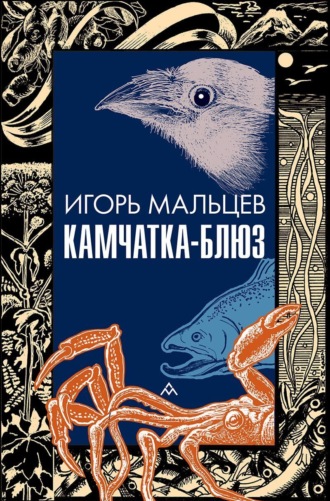
Полная версия
Камчатка-блюз

Игорь Валентинович Мальцев
Камчатка-блюз
Очерки
© И. Мальцев, текст, иллюстрации, 2025
© С. Носов, предисловие, 2025
© А. Лысиков, Э. Куни, Г. Поротов, тексты песен, наследники, 2025
© К. Звездочетов, С. Боровков, тексты песен, 2025
© ООО «Литературная матрица», макет, 2025
© А. Веселов, оформление, 2025
Предисловие
На Камчатке никогда не был. Да мало ли где не был. На Мадагаскаре, например, в Антарктиде, например, не был. Читал, разумеется, и про Мадагаскар, и про Антарктиду, раз на язык подвернулись, или про ту же Камчатку до недавнего времени, фильмы смотрел, но ведь это никак не отражалось на отношении к собственному непосещению означенных территорий. Ну не был и не был. А вот теперь с Камчаткой не так. И это «теперь» наступило по прочтении книги Игоря Мальцева. Теперь Камчатка – личное что-то. Жаль, что так у меня получилось: до седых волос дожил, а не побывал на Камчатке. И маловероятно, что теперь побываю. То, что мы с Камчаткой размежевались по жизни (по моей жизни), это, что ли, изъян судьбы. Есть ощущение такое.
Потому что написано зажигательно, вот почему. Не просто увлеченно, а именно зажигательно. Чего нельзя не почувствовать – с первых же фраз: как-то сходу – со всем своим читательским воодушевлением – подчиняешься авторской воле, попадаешь под власть этого уверенного говорения, каким бы себя ни знал скептиком, ни мнил всезнайкой. Об этом читатель предупрежден в самом начале: Камчаткой можно заболеть. Тысячи приехавших ненадолго остаются там на годы, если не навсегда, – Камчатка захватывает, не отпускает. Не факт, что читатель уже приобретает билет; фокус в другом. Вся эта книга о далекой Камчатке, сама как Камчатка, способна на то же – не отпускать. Она не обязана нравиться всем, как и любая другая книга, но мне трудно представить иммунитет, способный побороть эту заразительность, низвести ее до простого читательского равнодушия. Кто считает иначе (читает иначе) – пожалуйста: книга предъявлена.
И она – о людях.
Вулканы, сказочный ландшафт, флора, фауна, океан… Но главное – она о людях.
«Какие же они крутые».
А вулканы – это прекрасно. Прекрасен белоплечий орлан. Прекрасна каменная береза. «То есть на Камчатке есть буквально все. Да еще и собственная минеральная вода. Это просто фантастическая страна». Эпитет «фантастическая» нередко появляется в тексте.
«Северные летчики – это отдельная фантастическая каста людей».
Потому что книга о людях. О фантастических людях на фантастической земле.
«…мелкие тут не выживают. В любом смысле».
Постараюсь обобщить (неизбежно огрубляя): эта книга о подлинности человеческих отношений. Мне кажется, так.
По крайней мере, это важная, если не главная тема.
Наверное, чтобы обрести такой взгляд, надо однажды уехать, поскитаться по свету, пожить в непохожих местах.
Вряд ли ностальгия верное слово, отвечающее настроению рассказчика (тут другое что-то), но читатель, и не обязательно возрастной, взрослый, способен испытать ее сам, ностальгию по чему-то в человеческих отношениях утраченному – здесь, у нас, в краях своего обитания, не на Камчатке. В этом смысле книга еще и о нас, здешних, не камчатских, хотя в ней вроде бы прямо нет ничего об этом. Но не сравнивать невозможно.
Автор как таковой, он чем занят? Вообще говоря, выступает, работа у него такая – выступать, говорить, высказываться. Читатель – при сём; и понятное дело, присутствует молча – будь он хоть трижды имплицитный. Только в данном случае, взять конкретно читателя, что ему текст? – а то: для него общение с этой книгой – встреча двух собеседников. Правда же, так и подмывает вставить слово. Согласиться, возразить, изумиться вслух, о своем вспомнить: «А у нас…»
И рисунки. Авторские. В чем-то они документальнее фотографий (да простится мне сравнительная степень). Это свидетельства. Настроения, любви, памяти, знания. Своего, личного… Поясняющий текст беглыми буквами так же на них органично смотрится, как, рискну предположить, автору за рисованием слышится музыка – а может быть, и за изречением всего развернутого монолога. Надо ли отмечать музыкальность этого повествования? Что значит музыка в жизни Игоря Мальцева, ясно из текста. И литература. И кстати – кино (повествует он кинематографически зримо, будоража наше воображение) – но тут мы вообще должны заглянуть за рамки «Камчатки-блюз»: Игорь Мальцев – великий знаток мирового кинематографа – статьи, обзоры, книга «Видеодром», одно именный канал… Кто не знает, Мальцев – много чего. Независимый – и в самом буквальном значении слова – журналистская репутация Мальцева. Про независимость читатель «Камчатки-блюз» поймет сразу. Если он не знал до этого, кто есть автор. Да чего тут – интернет под рукой. Но если не знал, может, и не надо спешить – оставьте на потом узнавание. Образ автора раскроется в тексте объемно и непринужденно, и ярче всего в интонации – в силу, опять же, раскованности. И в меру того, что это не о себе на Камчатке, но – о Камчатке, о людях Камчатки – через себя.
Я вот об этом как раз. Устаешь от «объективности» и на нее претензий. Хочется, знаете ли, «субъективного», человеческого. Чтобы кто рассказал о предмете – как видит сам его, что думает сам о нем. Здорово, что Памук написал о родном Стамбуле. Многим пример, да не у всех получится (слух, взгляд, мысль, язык…). Здорово, что Мальцев написал о Севере, о Камчатке. О своем Севере, о своей Камчатке.
Есть в книге по частному поводу, но и по всему не поспоришь:
«Просто надо уметь смотреть».
Сергей Носов
* * *Моей большой и талантливой семье.
Маше, Даниле, Федору, Владимиру, Маргарите, Маше Мл., Марине Анатольевне, Ольге Игоревне и, конечно, маме
Есть люди, которые не уверены, что они бросили, например, курить. Они могут этим гордиться десяток лет, все рассказывать, какие они герои. Но стараются не смотреть фильмов, где курят. Запрещают при них курить другим. А все потому, что они не уверены в себе. Они просто боятся сорваться.
Я вот точно так же стараюсь не думать про Север. Стараюсь, чтобы он мне не снился больше никогда.
И тут жена едет в Мурманск ставить спектакль. Никогда не был в Мурманске. Это, похоже, такой же Петропавловск-Камчатский, только лет двадцать назад и без вулканов. Ну что за город без вулканов? Как можно спокойно засыпать в городе, где тебя не охраняют вулканы?
И вот мы летим из Питера: всего-то час сорок пять. Самолет битком, какие-то иностранцы, и не только китайцы, но и японцы. Откуда тут японцы? Зачем им на Север? Как они в Питер-то попали? «Это не настоящий Север, – успокаиваю я сам себя. – Настоящий, он там: в сторону, где встает солнце, и лететь не полтора часа, а девять. Это Север-лайт, он не опасен для завязавших аддиктов. Он с двойным угольным фильтром и без кофеина».
И тут самолет ныряет под вату и начинает долгий заход на посадку на небольшой высоте.
Это была ошибка – смотреть в иллюминатор. Снег, тундра, лес, плавные холмы. Да, это именно то, что способно пробить любую психологическую защиту. Понятно, что если лететь над гигантской страной Россией, то это тоже будет снег, лес, холмы разной высоты – бесконечно. Но каждый регион будет уникальным, и если ты хоть раз где-то жил, то узнаешь свой снег, свой лес, свои холмы – с любой высоты.
И запах. Запах Севера.
Он пробивается даже сквозь иллюминатор. И тут ты заново начинаешь понимать, почему лучше даже не думать про Камчатку. Потому что только дай слабину – и ты опять попался.
Я долго инструктировал жену перед тем, как отправил ее в мурманский театр: ты едешь просто работать, общаться с людьми, ставить спектакль. Ты увидишь, что люди там совсем другие. Это очень хорошо. Но как только сделаешь работу, собираешь чемодан и в тот же день – домой в Питер. Никаких «а давайте что-нибудь еще поставим» и «а давайте вы подумаете насчет детского спектакля на Новый год». Ответ может быть только один: чемодан – аэропорт – Пулково. Потому что каждый день, проведенный на Севере, Север смотрит в тебя. Он окружает тебя, он проникает в легкие и в венозную кровь. И в артериальную – тоже. Образцы волос тоже покажут наличие частиц Севера. И анализ ногтей тоже определит тебя как начинающего северянина.
Стоит чуть зазеваться, и полгода «просто так посмотреть, поработать» вдруг обернутся всей жизнью, и ты вдруг поймешь, что прошло и десять, и двадцать, и сорок лет. И они пролетели тут, на Севере. И вот уже бац! – северная пенсия.
Я видел не одного и не сто таких людей, а тысячи и тысячи. Они попадали сюда с родителями, они приезжали сюда «на сезон», они приезжали сюда «подзаработать» и вернуться в свой Тирасполь к яблоням. Они приезжали сюда служить срочную службу и собирались в дембельской форме с белыми шнурами и аксельбантами вернуться к старушке-маме, которая совсем не старушка. И никто из них не смог отсюда уехать никогда.
Я знаю, о чем говорю.
Я сам такой. Я с Камчатки.
* * *Писать про Камчатку можно несколькими принципиально разными способами. Один – сугубо профессиональный: это когда ты работаешь в местной газете. Тогда тебе просто приходится о ней писать, причем обо всем подряд – от рекордных уловов до успехов ЖКХ по части мусора. «Глядя на то, как кавалер ордена Ленина Мария Ивановна ловко управляется с потоком краба на конвейере, понимаешь: „Да, этого у нее не отнять“».
Но, конечно, всем профи хотелось бы писать «отчерки» на всю полосу про красоты далеких территорий. Самый шик – добраться, например, до Аянки, а это что-то вроде девятисот километров. Тогда командировка станет практически отпуском, недоступным для простых смертных ни за какие деньги. Потому что Аянка – это поселок уже почти на границе с Чукоткой, и никаких дорог, естественно, нет. Вот это для пишущих – просто работа мечты.
В таких опусах можно было написать «олени весело бежали на забойный пункт», и почти никто не смеялся. Газет было немного – обкомовские «Камчатский комсомолец», «Камчатская правда», «Рыбак Камчатки» да «Тихоокеанская вахта» (Камчатской флотилии). И это все отдельная история.
Второй способ писать про Камчатку – когда с нее уже уехал давным-давно, а она не отпускает. Этим грешит «образованный класс» Камчатки – сотрудники институтов, например, Института вулканологии и сейсмологии. И ТИНРО? И ТИНРО…
И я их понимаю: когда после фантастической, хотя и очень нелегкой жизни среди вулканов и медведей ты опять высаживаешься в родной Ленинград/ Санкт-Петербург, который живет своей прекрасной жизнью от котлетной и рюмочной до Растрелли и Гаккеля, ты можешь взорваться изнутри, как глубоководная рыба, которую вытащили из Марианской впадины на палубу.
Когда организм вскипает от азота, мои друзья-вулканологи из чувства самосохранения пишут книжки-воспоминания. Я видел произведения какого-то геофизика, которого Камчатка не смогла оставить даже в таком совсем не камчатском месте, как Калифорния, – все пишет и пишет, вспоминает и вспоминает. А я знаю почему. Потому что если сесть на песок на Венис-Бич в Лос-Анджелесе, у тихоокеанского прибоя, и хорошо присмотреться, то ровно напротив тебя, через океан, – будет Петропавловск-Камчатский. И от этого никуда не деться.
Перед авторами всегда встает дилемма. Можно посвятить свой текст полностью описаниям природы. Ведь одни только названия вулканов можно катать на языке, как камушки, половину книги: Кихпиныч, Тунупилянум, Иктунуп, Айнелькан, Кахтана, Тильмыг, Кайленэй, Хувхойтун, Кевенэйтунуп, Ука, Ульванэй, Алнгей, Киненин… И это я только начал. Там еще сотня наберется.
С таким же успехом можно писать книгу про Шотландию – просто перечнем гэльских названий местного виски. Очень похоже на названия камчатских вулканов: Кининви, Отруск, Ардбег, Туллибардин – там наберется еще сто двадцать штук.
А еще всю жизнь можно писать про белоплечего орлана, потому что это редкая, уязвимая огромная птица, и жизнь ее нелегка. Про камчатского медведя – тем более. Хоть и страшновато. Но давно уже нет среди нас Пришвина и Бианки, а также Мамина-Сибиряка-Соколова-Микитова. Кто поднимет их знамя? Да никто.
Тогда остается жанр анекдота. В старом, конечно, значении. Как его понимал Дидро, хоть это и не камчатский автор. И дней минувших анекдоты от Ромула до наших дней хранил он в памяти своей. И далее по тексту А. С. Пушкина, которому чуть-чуть не хватило времени, чтобы дописать статью о Камчатке (тридцать семь с половиной страниц в академическом собрании поэта – «Заметки при чтении „Описания земли Камчатки“ С. П. Крашенинникова»). А вы думали, это Цой?
Действительно, жизнь в таком месте подразумевает постоянную борьбу – с погодой, с брожением тектонических плит, с океаном, с неустроенностью, с временщиками, дураками и прочей фауной. И каждый конфликт – источник драматургического осмысления, то есть по факту – анекдот.
Конечно, на Камчатке есть тайный культ старых авторов, которые не писали ничего лишнего из-за отсутствия интернетов и благодаря хорошему образованию – Карл фон Дитмар, Степан Крашенинников, Василий Головнин, Геннадий Невельской, Николай Мономахов и даже Борис Пийп. Это были великие авторы. Без самолюбования, все по делу: дошел, открыл, зафиксировал «одна им от медведей, но и то не всегдашняя обида, что отнимают они у баб собранные ягоды», ушел. Или не ушел. Как Беринг. А на острове Медный, оказывается, есть медь.
Когда-то у меня была мечта – найти в амстердамских-лондонских антикварных лавках еще то, самое первое издание книги Крашенинникова, ну хоть какое-нибудь из них – начиная с первого английского 1755 года. Или хотя бы вырезанную из томика гравюру типа «Внутреннее строение зимней камчатской юрты и как женщины сидя по парам в разных трудах упражняются». Потратил на поиски годы, но нет. Что угодно есть, а Крашенинникова нет. Где вы, женщины, сидящие по парам?
И тут совсем недавно осенило: такие территории, как Дальний Восток, Крайний Север, Камчатка, – это все неописуемое в прямом смысле слова – сколько ни пиши, все равно все не опишешь. Чехов это понял довольно быстро на Сахалине и остановился на человеческом. Ну, хорошо, на каторжном. Русская интеллигенция всегда умела найти все самое доброе и вечное в своей стране и написать «Записки из мертвого дома» или «Сибирь и каторга». Но все равно же это про людей, с элементами правозащиты, а не про багульник, который на сопках растет, кедры вонзаются в небо, спасибо, дядя Шаинский – слова Морозова. Исполняет ВИА «Самоцветы». А ведь есть люди, которые считают багульник ядовитым.
И вот эта неописуемая природа и жизнь между прибоем и лавой обрушивается на плечи человека и начинает его ковать на свой лад. Соблазном и шантажом, угрозой смерти и обещаниями бесконечной красоты, крабом и тигром, помахивая мыслями о «материке», куда все когда-нибудь вернутся и наконец заживут по-настоящему. А потом оказывается, что по-настоящему – это было здесь и только здесь. А все остальное – банальное существование. Возраст дожития – для тех, кто оставил и все-таки уехал, не дожидаясь места на самом неуютном кладбище мира – Халактырском.
Оказывается, единственное, что можно здесь описать хотя бы со вторым классом точности (как в обработке металлов), это люди, которые жили и живут здесь. Когда они рядом, ты не замечаешь в них ничего особенного: ну, да, каждый по-своему интересный. А потом, когда или ты уехал, или они ушли, понимаешь, какие же потрясающие они были, удивительные, талантливые, масштабные – безграничные на полную катушку. Потому что мелкие тут не выживают. В любом смысле.
Ежели тут человек ненароком оказался гнидой, у него резко повышается риск замерзнуть в пургу. Ну заблудился, кричал – не услышали. Засыпало снежком, спи спокойно.
Или как на пароходе. Вот гнилой человек оказался, пока все пашут четыре через четыре или шесть через шесть, машина – консервный цех, промысловая палуба, траловая доска. Десять центнеров улов. А человек вдруг гнилой. Так он рано или поздно поскользнется, за борт свалится. Может, и кричал что – никто не услышал. Пока команда «человек за бортом», пока пароход опишет круг – «лево на борт» или «право на борт», а вода плюс ноль. Больше двух минут продержаться невозможно. Упс, какая незадача.
Просто на Севере надо жить так, чтобы ненароком не поскользнуться в одиночку с парохода, на котором сто человек, включая мотористов и библиотекаршу. Не забыть буфетчицу, но о ней обычно всегда помнит старший помощник. И чем дольше промысловый рейс, тем больше помнит.
Как попадали/-ют на Камчатку? Самолетом. Раньше – еще и пароходом. Извините за профессиональный жаргон – когда ходишь в море, привыкаешь все виды судов называть пароходом. Или «корытом» – независимо от стати, размера и вида энергетической установки. Мне даже больше нравится «корыто» – в этом слове много нежности и любви.
Парохода было два, и носили они гордые названия «Советский Союз» и «Русь». На самом деле это были Albert Ballin и Cordillera c гамбургской верфи Blohm & Voss. Ну а что? Имеем право. Право победителей. Правда, «Кордильеру» пришлось поднимать со дна, потому что ее утопили американцы в Польше. Альберт Баллин был евреем, поэтому судно с его именем маркетологи в черной униформе переименовали в Hansa. Под этим титулом пароход и подорвался на мине. Его тоже достали со дна, и Hansa стала «Советским Союзом».
Зато в 50-е линия Петропавловск – Владивосток получила два шикарных парохода с убранством в стиле ар-деко и даже внутренним бассейном. С войны прошло всего двенадцать лет. Кто воевал – имеет право у тихой речки отдохнуть. И пройти по главной лестнице, достойной самого «Титаника».
Мне очень жаль поколений, которые никогда больше не увидят настоящий судовой шик ар-деко в реальности. Только в глупых и не очень американских блокбастерах или, в лучшем случае, пластиковое нечто на огромных нелепых круизных пароходах, где спасательных средств в два раза меньше, чем пассажиров-туристов.
Если строго технически – «Советский Союз» был паротурбоходом, и до Петропавловска из Владивостока он шел восемьдесят четыре часа. Всего. Хотя, конечно, бассейн внутри – довольно противоречивая забава. Немножко клаустрофобично. Во всяком случае, в детстве мне именно так и ощущалось. Всегда чувствую себя лучше на палубе, чем под ней.
Но касаемо «Советского Союза».
Есть такая штука на море, как магия имени. В море вообще – сплошная магия, но тут отдельно. Был ли Альберт Баллин хорошим человеком? Нет. Это он придумал для своей гамбургской пароходной компании отправлять евреев-эмигрантов в трюмах грузовых пароходов в Америку за полный билет в нечеловеческих условиях. Судно с его именем было обречено так или иначе. Хоть потом оно стало «Ганзой», то есть налицо отсыл к Ганзейскому союзу городов, куда входил даже Великий Новгород… Ну какой, к черту, союз городов при Гитлере? Он оккупировал Новгород уже в 1941 году. «Ганза» избежала судьбы «Вильгельма Густлоффа» только потому, что у нее заглох главный двигатель и подводник Маринеску до нее не добрался в тот день. Но все равно ее отправили на дно летчики в Свиноусцье-Швайнемюнде. Он же «Свиная пасть».
Когда решили в 1980-м покончить с лайнером «Советский Союз», то поняли – есть проблемка. «Советский Союз» невозможно продать. «Советский Союз» невозможно пустить на металлолом. «Советский Союз» невозможно разрезать на куски. Во всяком случае, в 80-е люди еще верили, что это так.
«Продан „Советский Союз“!» – таких заголовков не могло появиться в советской прессе никак, но люди между собой именно так бы и говорили. «Ну, что, брат, пустили наш „Советский Союз“ на металлолом». Потому что этот лайнер был для камчатских неколебимым свидетельством того, что они живут не на острове и большая страна вот она – всего восемьдесят четыре часа хода.
Дальневосточное пароходство трусливо переименовало его в «Тобольск» и продало его на металлолом. Резали его на куски уже в Гонконге.
С чего они взяли, что «Советский Союз» резать нельзя, а «Тобольск» – можно, не очень понятно. Наверное, потому что Тобольск далеко – и от Москвы, и от Владивостока, и никто из местных не увидит ненужного символизма. И не будет ворчать.
* * *Но нет, это был не пароход. Это был ночной рейс самолетом Ил–18 из Владивостока до аэропорта Елизово.
Сначала на шлюпке через канал, который отделяет остров Елена от Русского острова. Сейчас, когда Русский весь такой модный, с мостом и кампусом, трудно поверить, что на самом деле острова там два.
Остров Елена был местом, где стояла секретная часть морской радиоразведки моего отца. И она была некоторым образом изолирована.
В этом нет никакого уже секрета. Скорее всего. Потому что достаточно посмотреть спутниковые снимки на всех гуглах, чтобы увидеть, что там ничего уже нет – только остов дома, где мы жили, фундамент технического здания, где все служили и несли вахту. Ничего. Наверное, с тех самых лет, когда министр Козырев, ныне гражданин США, целовался с этими самими США взасос и делал все, что они велели, дабы выдернуть все зубы «советскому дракону». И выдернули.
Но остров Елена – это такая копна зелени в океане (технически, конечно, в заливе, но «океан» звучит гораздо круче, привет, старик Хэм). Склоны резко срываются к воде, и почти весь остров опоясан довольно каменистым узким пляжем. Там мы учились плавать раньше, чем читать.
Я не знаю, как сейчас, но тогда, в 60-е, бухты и острова вокруг Владивостока – это было естественное буйство гастрономии. Иногда в магазинах не было хлеба, почти всегда не было мяса. Но местные не слишком жаловались. Потому что все ловили еду себе сами, а картошка росла в огороде. Что может быть лучше трепангов с картошкой? Говорят, сейчас есть банды по нелегальному вылову трепанга. Охотно верю. Но тогда все ловили столько, сколько нужно на ужин. И государству не было до этого дела. Странно предъявлять гражданам претензии, что они сами себя пытаются прокормить, если не можешь обеспечить их мясом или, скажем, хлебом. Мы же помним хрущевский 61-й год. Это вы не помните, а мы – помним. Бесплатно и без регистрации на нашем сайте.
Мы выходили недалеко на лодке, отец доставал со дна трепанга, которого смешно называют «морской огурец». Это такое небольшое создание, живущее и передвигающееся по принципу реактивного истребителя типа Миг–15, только медленней. А еще у него мягкие шипы. Ах, да: он же, по науке, из иглокожих. Иглокожие лежат на шлюпочной банке и, пока мы идем домой, они из круглых упругих ракет превращаются в плоские кусочки морской плоти. Дома с ними надо еще что-то делать – чистить, желательно в чем-то мариновать, нарезать на ломти, как «Тобольск» в Гонконге, но об этом лучше спросить мою маму. Я помню только конечный результат в виде картошки с необычными грибами. Но вот что странно – я с тех пор ни разу нигде не пробовал трепанга.
Трепанга или трепангов? Гребешков или гребешка? Креветок или креветку? Это старая филологическая задача. Причем в разных языках. Как показывает практика, по употреблению shrimp или shrimps можно определить не только образование человека, но и цвет его кожи.
Ну, в общем, если ты идешь нырять за самым вкусным, что есть в заливе Петра Великого и в бухте Золотого Рога, и даже в Босфоре Восточном, то ты точно идешь за гребешком в единственном числе. Независимо от того, сколько именно зверей ты смог поднять со дна.
В ловле гребешка есть что-то от языческого праздника. Они водились тогда как-то совсем неглубоко, так что пятилетний ребенок мог донырнуть. При этом на пляже уже разведен костер, и он догорает, остаются угли и вообще уже скоро надо идти домой. Но тут достается ножик, и лезвием проводится между створок. Туда можно даже кинуть соли и перца, и раковина ставится на угли.
Через некоторое время гребешку становится не по себе, и он распахивается. Потом – обратно закрывается. Еще чуть-чуть, и все хлипкие внутренности вокруг главного мускула обгорают, и его можно и нужно есть. Такой гребешок даже вкусней камчатского краба, вкусней омара и главное – гораздо вкусней, чем то, что вам подают в ресторанах за дикие по местным меркам деньги. В любой стране и в любом городе.
Для тех, кто не углублялся в тему, сообщим, что гребешок бывает разных видов, причем этих видов штук двести. Тот, что во Владивостоке, – это гребешок Свифта. Есть еще Магелланов гребешок. А то, что едят в Европе, называется гребешок св. Якова. Того самого, что лежит в городе Сантьяго-де-Компостела. Говорят, гребешки вынесли святого Якова из моря и спасли его от неминуемой смерти. Я не знаю, как они это сделали – ведь у них нет ни ног, ни щупалец, и движутся они, как многие морские создания, на реактивной тяге. Не доверяя мифам и легендам католиков, поехал в Компостельский собор, посмотрел: точно выносят, как спасатели на руках, только без рук. Чудны дела твои, Господи.
Но минутка Паустовского/Бианки в разделе «Дальний Восток собственным ртом без вилки и ложки» закончена. Более того, костер догорел, солнце садится, пустые раковины брошены обратно в море, надо домой, через неделю первый раз в первый класс. Вообще-то надо было предупреждать детей – какая гадость эти хризантемы и пионы на школьной линейке 1 сентября. Хотя, может быть, вот этот невыносимый запах и предупреждает, что впереди у тебя десять лет какой-то каторги. И никакой Чехов за вас не заступится жгучим глаголом.



