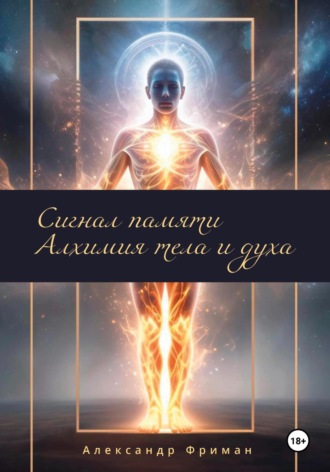
Сигналы памяти. Алхимия тела и духа
Фаза 3. Отложение (депозиционная)
● Что происходит. Вывести уже трудно – организм «складывает» и изолирует нагрузку в менее опасной форме.
● Примеры. Липомы или кисты, «песок»/камни, хронический синусит с утолщённой слизистой.
● Психоэмоционально. Вытеснение/консервация: «не трогаю – и не решаю».
● Поддерживающие действия. Регулярное мягкое движение и лимфоподдержка, работа со сном и стрессом, щадящая коррекция рациона, поддержка микробиоты, постепенность.
● Что может ухудшать. Агрессивные «разгоны» без подготовки, косметическое устранение проявлений без изменения условий.
Фаза 4. Пропитывание (импрегнационная)
● Что происходит. Токсины и медиаторы проникают в межклеточную среду и клетки, меняя функции; симптомы становятся «тише, но глубже».
● Примеры. Хронические артриты, гепатиты, склеродермия (как возможные траектории).
● Психоэмоционально. Давний непрожитый конфликт; утомляемость, нестабильность.
● Поддерживающие действия. Длинный темп: реконфигурация режима, восстановление ритмов, щадящая физическая активность, работа с границами «нельзя/можно», сопровождение специалиста.
● Что может ухудшать. Серийное подавление обострений, игнорирование глубинных факторов (сон, перегруз, отношения).
Фаза 5. Дегенерация
● Что происходит. Утрата функций тканей, нарастают необратимые изменения.
● Примеры. Выраженный остеоартроз, цирроз и т. п. (как возможные траектории).
● Психоэмоционально. Ощущение «сдачи», утраты смысла.
● Поддерживающие действия. Медицинское ведение, поддержка качества жизни, питание и движение без перегруза, психоэмоциональная опора, бережная работа с болевым синдромом.
● Что может ухудшать. Отказ от помощи, «сам себе врач», крайние диеты или нагрузки без показаний.
Фаза 6. Новообразования
● Что происходит. Дисрегуляция роста, автономное поведение клеток.
● Примеры. Онкологические процессы.
● Психоэмоционально. Глубоко вытеснённое, «забетонированное»; часто длинная предыстория подавлений.
● Поддерживающие действия. Онкологический маршрут и междисциплинарная команда; психоэмоциональная поддержка; бережная работа со смыслом и отношениями.
● Что может ухудшать. Задержки с обращением, отказ от доказанных методов при принятии сложных решений.
Важно: между фазами нет «скачков» – система предупреждает. При снятии хронического подавления возможна регрессивная динамика – временное возвращение к более поверхностным, острым реакциям с последующим облегчением.
Викариация (62): как организм «переключает» выход
Организм умеет смещать вывод токсинов с одного уровня на другой – это можно описать как викариацию, то есть переключение. Возможны два вектора:
● Прогрессивная викариация – подавление острых «внешних» проявлений с уходом внутрь (например, после частого «сбивания» жара – хронические «тихие» проблемы).
● Регрессивная викариация – возвращение к более поверхностным, острым реакциям (временный насморк вместо постоянной «ватной головы»), после чего бывает облегчение.
Система большой защиты: где «работает» детокс
В теле действует интегрированная антигомотоксическая система: ретикулоэндотелиальная ткань (лимфатическая система, селезёнка, костный мозг), эндокринные механизмы стресса, печень как центр детоксикации, а также мезенхима – соединительная ткань, через которую проходят большинство обменных и иммунных процессов. Симптом в этой оптике – маркер включения защиты, а не «враг». Полезно помнить и о locus minoris resistentiae (63) – «месте наименьшего сопротивления»: участках, где из-за старых микротравм, дефицитов, гормональных сдвигов или прежних вмешательств реакция возникает легче. Там и «прорывает» чаще всего.
Ещё один ракурс: «почва» и старт жизни
Когда мы говорим о «почве», мы говорим и о старте жизни: часть родительской нагрузки становится фоном для зачатия, беременности и первых месяцев ребёнка. Поэтому забота о снижении общей нагрузки – вклад не только в собственное здоровье, но и в здоровье следующих поколений. В этом смысле нам близок практический опыт Татьяны Малышевой:64 используем его как ориентир – не как медицинский протокол, а как способ организовать условия и сопровождать естественные процессы.
Примечание от автора. Иногда ключи приходят не из кабинета учёного, а из живой практики. Когда мы с бывшей супругой готовились к родам, было ясно: рождение – это не только физиология, это переход. Ритуал. И к нему стоит подойти с уважением к природе и вниманием к «почве» – к условиям, которые мы создаём телом, образом жизни, отношениями. Тогда в нашу жизнь вошла Татьяна Малышева – не просто проводник в родах, а зеркало мудрости тела. Её спокойная оптика помогла связать уровни интоксикации с более широкой системой: эмоции, конфликты, внутренние и внешние токсины, а также родовые уязвимости. Тело – не только объект диагностики. Это история. И у каждой истории – свои ключи.
В Приложении № 1 будет подробная таблица уровней интоксикации по Реккевегу с примерами и пояснениями и практические ориентиры от Татьяны Малышевой: о роли воды, питания, движения и осознанности – как способах снизить общую нагрузку до зачатия, поддерживать организм во время беременности и готовиться к родам.
Четыре опоры (адаптируйте под свой контекст)
● Питание – по телу, а не по моде: снижение общей нагрузки, поддержка желчеоттока и микробиоты, без крайностей.
● Движение и закаливание – как ритуал жизни: мягкая регулярность лучше редких подвигов; лимфе нужен ритм.
● Вода – достаточно и осознанно: важна фильтрация, вязкость крови, работа фасций и выделительных путей.
● Осознанность – настройка всей системы: замечать сигналы, говорить правду близким, вовремя отдыхать и «выдыхать» эмоции.
Ритмы и среда: почему контекст важен
Даже «химический» детокс – не только про списки продуктов. Важен общий контекст: суточные ритмы печени, кислотно-щелочной фон тканей, баланс симпато-парасимпатической регуляции. В острых фазах чаще наблюдается более кислый сдвиг в тканях и мобилизация; при торможении воспаления – тенденция к более щелочному смещению. Эти колебания естественны – вопрос в том, подавляем ли мы их или поддерживаем завершение.
Несколько жизненных сюжетов
«Вечный ринит»
Ребёнок годами пользуется сосудосуживающими: насморк стихает – и возвращается. Родители замечают, что при свободном плаче и выходе «слизи» улучшается сон, снижаются головные боли. Они учатся не глушить каждый чих, а сопровождать – тёплой водой, отдыхом, нежёсткими режимами. Со временем фон становится легче.
«Желудок на паузе»
У предпринимателя 34 лет периодические «жгучие вечера» и тяжесть после переговоров. Гасил изжогу «быстрыми решениями» и обезболивающими – помогало на час, потом возвращалось. Он пересобрал режим: тёплая вода до еды, медленные ужины, короткие паузы тишины перед сложными встречами, позволил себе говорить «перенесём». На неделю вернулись краткие острые сигналы (регрессивное «обострение»), затем самочувствие стабилизировалось: легче просыпаться, ушли ночные спазмы. Симптом перестал быть единственным способом ставить стоп.
«Сон, который убежал»
Менеджер проектов 27 лет: «долго не могу уснуть, просыпаюсь разбитым». На время помогают кофе и редкие снотворные – днём ватная голова, к вечеру снова возбуждение. Вместо очередного «заглушить» – сопровождение: цифровой закат за 90 минут до сна, тёплый душ, приглушённый свет, короткая запись «что меня тревожит» и одна правдивая фраза близкому. Плюс вода и ранний ужин. На 3–4-й день случается «регрессивная буря»: яркие сны, пару ночей частые пробуждения – а затем сон становится глубже, утренние спазмы и изжога редеют. Ритм дня и ночи возвращается.
Как применять в практике (для специалистов и для себя)
● Смотреть на симптом через связку: почва → реакция → исход. Сначала оцениваем общий фон (нагрузку), затем характер реакции, и только потом – вмешательства.
● Ориентироваться на фазу (1–6) как на карту беседы, а не диагноз – это помогает выбрать темп и язык сопровождения.
● Отслеживать викариацию: что и когда подавлялось; есть ли признаки регрессивного «выхода» после мягкой поддержки.
● Делить действия на поддерживающие и ошибочные (см. описания фаз), чтобы не попадать в инерцию «глушить всё».
● Помнить о красных флагах: острая или нарастающая боль, травма, высокая температура, неврологическая симптоматика и др. – это к врачу; рамка не заменяет медицинскую помощь.
● Для специалистов: фиксировать locus minoris resistentiae клиента и работать темпом, а не силой. Поддерживать завершение, а не подавление.
Рефлексия
● В какой из фаз я чаще «застреваю» сейчас?
● Какие сигналы я чаще подавляю, чем сопровождаю?
● Где моё «место меньшего сопротивления» и как я могу позаботиться о нём?
● Какой один маленький шаг на этой неделе реально снизит мою общую нагрузку?
ГЛАВА 12. Психогенетика: след памяти в теле
Родовые программы, сценарии, хроники семейных травм
Генетика – это язык, который наше тело унаследовало от предков. Но в отличие от языка речи, он говорит не словами, а формами: нарушением функции, слабостью органов, склонностью к тем или иным реакциям. Этот язык называют генетическим кодом (65) – молекулярной системой, в которой записана последовательность жизни. Важно помнить: он не детерминирует судьбу, а задаёт возможности.
На протяжении XX века считалось, что передача информации в теле происходит строго в одном направлении: от ДНК → к РНК → к белкам. Это долго воспринималось как догма. В XXI веке биология расширила картину: появилась эпигенетика (66) – раздел о регуляции активности генов без изменения последовательности ДНК; экспрессия зависит, среди прочего, от условий жизни, среды, стресса, токсинов и питания.67
Проще говоря, один и тот же ген может активироваться либо оставаться «молчащим» – в зависимости от образа жизни и переживаемых нагрузок, включая эпигенетический триггер (68). Это частично объясняет, почему у одного ребёнка в семье возникает заболевание, а у другого – нет, при одинаковой наследственности.
Один из случаев из практики. У женщины диабет первого типа с семи лет, а её брат здоров. На уровне ярлыка звучало «генетика». Если смотреть глубже, картина шире: девочка с детства заботилась о матери, росла в обстановке постоянного контроля и тревоги. Папа ушёл рано, мама жила в беспокойстве, дочь научилась «держать себя в руках». Эта сдержанность стала для тела внутренним конфликтом: потребность в свободе подавлялась, энергия не находила выхода – это могло способствовать дисрегуляции, в том числе со стороны поджелудочной железы. В ряде телесно-ориентированных школ её символически связывают с темой «сладости жизни», но это не клинический факт и не диагноз.69
Здесь дело не в одном лишь гене, а в сочетании среды, сценария и повторяющегося состояния. На молекулярном уровне такие реакции описывают через модификации гистонов (70) и метилирование ДНК (71). Эти эпигенетические механизмы функционируют как регуляторные «выключатели» экспрессии: при определённой нагрузке они повышают вероятность активации гена, в более спокойной среде – снижают её.72
Ген можно сравнить с музыкальным инструментом: можно взять его в руки и промолчать. А можно – сыграть трагедию. Выбор делает не только природа, но и человек. Поэтому заболевание может не проявиться в момент рождения, а активироваться спустя годы, когда «почва» складывается. Мы называем это точкой активации: момент, когда потенциальная уязвимость пересекается с внешними и внутренними условиями.
Ещё один случай. Женщина вынашивает ребёнка. Снаружи всё в порядке: семья, дом, стабильность. Но возникает напряжение: слёзы, раздражение, тревога без видимой причины. Иногда это связано с кризисом в отношениях; иногда – с поднимающейся старой болью, не связанной напрямую с мужем. Если присмотреться, оживает память детства: строгий или эмоционально недоступный отец, требование «быть правильной». В детстве женщина научилась молчать и «держаться». Во время беременности эта память может активироваться. Сердце ребёнка – орган уязвимости и контакта – чутко реагирует на общий эмоциональный фон. В ряде наблюдений описывают, что подобные фоны могут усиливать уязвимость регуляции, но причинно-следственные выводы ограничены.
Мы уже сказали: ген – это не приговор, а возможность. Стоит понимать, какие возможности тело унаследовало и откуда они пришли. В генетической карте (тесты предрасположенности, наследуемые признаки) часто вводят два понятия: доминантный и рецессивный ген. Доминантный проявляется сразу в первом поколении; рецессивный может не проявляться вовсе. Если у обоих родителей рецессивный вариант совпадает, вероятность проявления у ребёнка повышается. Важно это видеть не только как биологию, но и как контекст: гены задают склонности, а среда влияет на их реализацию.
Пример
У обоих родителей не было астмы. По линии отца три поколения мужчин испытывали удушье и панический страх замкнутых пространств. У сына с рождения диагностирована астма. Генетический анализ выявил рецессивный ген (73) по дыхательной системе, активированный совпадением по материнской и отцовской линии. Если посмотреть через психоэмоциональное поле рода, видно повторяющуюся тему: несправедливость, контроль, удушение свободы у мужчин. Симптом стал формой выражения памяти, а не только генетической уязвимостью.
Такой ген активируется не «сам по себе», а как сигнал: «посмотри сюда». Психогенетика рассматривает наследие не как набор химических кодов, а как передачу состояний – чувств, которые не были прожиты, но продолжают звучать в потомках. Если эпигенетика говорит, что образ жизни влияет на экспрессию, то психогенетика уточняет: то, как жили до тебя, влияет на то, что ты считаешь собой. Мы – не только результат собственных выборов. Мы – сцена, на которой продолжается история.
Что активирует ген
Доминантный ген проявляется сразу, рецессивный – при совпадении копий у обоих родителей. Эпигенетика показывает: даже доминантный может оставаться «в спящем режиме», а рецессивный – не проявиться вовсе, если среда не создаёт условий для активации. На включение гена влияет комплекс факторов:
● условия внутриутробного развития;
● эмоциональный фон матери;
● уровень токсинов и стресса;
● родовой контекст.
Поэтому наличие рецессивного варианта необходимо, но не всегда достаточно; вероятность реализации модифицируется средой. Эпигенетика становится мостом между биологией и биографией.
Когда память и ген «склеиваются»
Один случай из практики. Мальчик шёл по улице и ел яблоко. Вдруг на него напала собака. Шок, страх, застывшее дыхание. Через пару дней – отёк, сыпь, затруднённое дыхание. Диагноз: пищевая аллергия на яблоки. Рядом шёл другой мальчик – тот же маршрут, та же собака, то же яблоко, но без последствий. Разница в уязвимости: у первого совпали унаследованный потенциал, событие и общая нагрузка; у второго – нет. Ген стал «приёмником», событие – «кнопкой», среда – «усилителем».
Интоксикация как почва для активации
Чтобы рецессивный ген проявился, одного события недостаточно – нужна питательная среда: физическая, эмоциональная, социальная. Интоксикация – химическая или эмоциональная – создаёт «влажную почву», в которой спящее семя легче прорастает.
Пример
Ребёнок с потенциальной предрасположенностью к дерматиту до шести лет здоров. Затем – эмоциональное давление в семье, курсы антибиотиков, избыток сахара, тревожность. На седьмом году – воспаление кожи. Это не «вдруг», а результат сочетания гена (потенциал), события (триггер) и среды (интоксикация).
Хотя термин «психогенетика» часто используют терапевты, у него есть своя литература. Об этом пишет Марк Уолинн, как непрожитая травма родителей может транслироваться детям не через гены, а через эмоциональную настройку и динамику привязанности.74 Он рассматривает беременность и ранний период как окно особой чувствительности. Якоб Роберт Шнайдер, представитель системного подхода, формулирует сходную мысль: если опыт рода не был распознан и завершён, потомки склонны повторять его до тех пор, пока кто-то не остановится и не увидит это прямо.75
Ген – это не только код белка. Это ещё и форма памяти, которую можно прожить или повторить. Когда мы видим болезнь как карту, а не приговор; когда спрашиваем не только «что болит», но и «чья это боль?», мы расширяем поле выбора. Психогенетика – не про вину, а про возможность завершить, а не передать.
ГЛАВА 13. Карта тела: где болит – там память
Топография боли, телесная хроника и карта чувств
Боль – больше, чем сигнал. Это координата: место, где что-то осталось незавершённым, где тело вспоминает свою историю. Читается она лучше, когда рядом с анализами лежит человеческий контекст – смотрим на оба слоя вместе.
Сегодня помощь устроена по специализациям – это нормально, но связи между звеньями порой размываются. Кардиолог видит аритмию, гастроэнтеролог – спазмы, психиатр – тревогу; семейному врачу нелегко держать в фокусе и лекарства, и психотерапию одновременно. Целостный взгляд стягивает эти линии в одно: что происходит в теле, что – в жизни, какие препараты и события были на фоне, как менялись сон и нагрузки.
Несмотря на прогресс, инерция прежних представлений сохраняется. Дискуссии о роли эпигенетики, психосоматики и психогенетики продолжаются; чаще их рассматривают как дополнение. Дальше я ставлю эту оптику рядом с клиническими данными – чтобы искать связи.
Такая оптика дополняет клинику. Она помогает искать причины глубже, замечать связи и читать телесную хронику. Потому что тело – не только биология. Это топография опыта (76
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Руперт Ф., Банцхаф H. Моё тело. Моя травма. Моё Я. – М.: Меридиан-С, 2019. – 388 с. – ISBN 978-5-903707-17-1. (Офиц. перевод с: Franz Ruppert, Harald Banzhaf. Mein Körper, mein Trauma, mein Ich. München: Kösel-Verlag, 2017.)
2
Симулякры вкуса – подменённые вкусовые сигналы: искусственно усиленные вещества, имитирующие ощущение насыщенности, сладость, «мясной» или «молочный» вкус без реального нутриентного наполнения. На биологическом уровне симулякры искажают телесную обратную связь и могут вызывать ложное чувство насыщения.
3
Шеперд Г. Нейрогастрономия. Почему мозг создаёт вкус еды и как этим управлять. – М.: Бомбора (Эксмо), 2020. – 320 с. – ISBN 978-5-699-96292-1. (Офиц. перевод с: Gordon M. Shepherd. Neurogastronomy. New York: Columbia University Press, 2012.)
4
Психоэмоциональные соответствия вкуса – внутренняя ассоциация каждого базового вкуса с определёнными чувствами, базирующаяся на раннем опыте, биологических реакциях и культурных паттернах.
5
Крингелбах М. Л. Орбитофронтальная кора человека: связь вознаграждения с гедониче-ским опытом (неофициальный перевод). – (Kringelbach M. L. The human orbitofrontal cortex: linking reward to hedonic experience. Nature Reviews Neuroscience. 2005; 6(9):691–702.) – DOI: 10.1038/nrn1747. – УД: C.
6
«Блаженный пик» – термин нейро-пищевого маркетинга; диапазон концентраций вкусовых компонентов, при котором продукт воспринимается максимально приятным и побуждает к повторному потреблению.
7
Мосс М. Соль, сахар и жир. Как пищевые гиганты посадили нас на иглу. – М.: Манн, Ива-нов и Фербер, 2015. – 336 с. – ISBN 978-5-00057-323-5. (Офиц. перевод с: Michael Moss. Salt Sugar Fat. New York: Random House, 2013.)
8
Вкусовая дезориентация – нарушение способности различать подлинные вкусовые сигналы тела (включая внутренние потребности) из-за хронической подмены вкуса, ранней травмы или искажённой культуры питания.
9
Культурный паттерн – укоренённая модель восприятия или поведения, передаваемая через язык, традиции и воспитание.
10
Амигдалин («витамин B17») – цианогенный гликозид, содержащийся в семенах некоторых фруктов; обсуждается в связи с заявленными противоопухолевыми эффектами, но его медицинское применение ограничено/запрещено в ряде стран из-за токсичности.
11
Национальный институт рака США (NCI). Laetrile/Amygdalin (PDQ): версия для пациентов [Электронный ресурс]. https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/cam/patient/laetrile-pdq (дата обращения: 02.06.2025)
12
Технологические вкусовые добавки – вещества, усиливающие/модифицирующие вкус (например, глутамат натрия, ацесульфам-К, аспартам и др.); обсуждается их вклад в адаптацию рецепторов и формирование предпочтений.
13
Паразитарная/дисбиотическая микробиота – смещение микробных сообществ в сторону условно-патогенных форм (бактерии, грибки, простейшие), способных влиять на гормональные и нейромедиаторные пути, аппетит и выбор пищи.
14
Дзгоева Ф. Х., Силина Н. В. Микробиота как фактор, влияющий на изменение вкусовых предпочтений после бариатрической операции // Эндокринная хирургия. 2022. Т. 16, № 1. С. 13–22. – DOI: 10.14341/serg12755.
15
Гарвардская школа общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана. Cravings • The Nutrition Source [Электронный ресурс]. URL: https://nutritionsource.hsph.harvard.edu/cravings/ (дата об-ращения: 04.06.2025).
16
Стивенс Б., Ямада Дж., Олссон А. Сахароза для анальгезии у новорождённых при болез-ненных процедурах // Cochrane Database of Systematic Reviews. 2016. Issue 7. Art. No.: CD001069. – DOI: 10.1002/14651858.CD001069.pub5.
17
Майер Э. А. Второй мозг: как микробы в кишечнике управляют нашим настроением, ре-шениями и здоровьем. – М.: Альпина нон-фикшн, 2018/2023. – 348/416 с. – ISBN 978-5-00139-953-7 (изд. 2018/2023). (Офиц. перевод с: Emeran A. Mayer. The Mind-Gut Connection. – New York: Harper Wave, 2016.)
18
Всемирная организация здравоохранения. Руководство: потребление свободных сахаров взрослыми и детьми [Электронный ресурс]. Женева: ВОЗ, 2015. URL: https://www.who.int/publications/i/item/9789241549028 (дата обращения: 06.06.2025).
19
Осмотический баланс – равновесие воды и растворённых веществ (прежде всего натрия и калия) между внутриклеточной и внеклеточной средой; определяет объём циркулирующей крови, артериальное давление и гидратацию тканей.
20
Всемирная организация здравоохранения. Сокращение потребления соли: рекомендации для взрослых и детей [Электронный ресурс]. – URL: https://iris.who.int/handle/10665/340029 – (дата обращения: 07.06.2025)
21
Солевой аппетит – врождённо-приобретённая мотивация к потреблению натрия; регулируется гомеостатическими и эмоциональными контурами (в т. ч. с участием гипоталамуса и миндалевидного комплекса) и активируется при дефиците электролитов, потере жидкости или стрессе.
22
Хёрли С. В., Джонсон А. К. Биопсихология тяги к соли и дефицита натрия. – Pflugers Arch. 2015. Т. 467, № 3. С. 445–456. – DOI: 10.1007/s00424-014-1676-y. – (Hurley S. W., Johnson A. K. The biopsychology of salt hunger and sodium deficiency. Pflugers Archiv – European Journal of Physiology. 2015;467(3):445–456).

