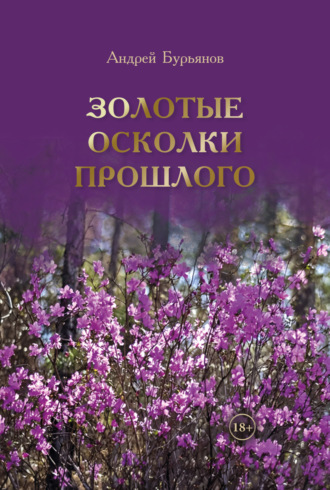
Полная версия
Золотые осколки прошлого. Дневники и воспоминания

Андрей Бурьянов
Золотые осколки прошлого
Дневники и воспоминания
© А. Бурьянов, текст, 2025
© Издательство «Четыре», 2025
Дорога как жизнь: книга, в которой оживает география памяти
Книга Андрея Бурьянова «Золотые осколки прошлого» – это подлинное сокровище современной мемуарной и дорожной прозы, наполненное глубокими размышлениями, неподдельной искренностью и удивительным чувством жизни. Это не просто воспоминания геолога – это философия странствий, поэтика пути, гимн человеческому бытию, пережитому в движении, вглядывании в пейзаж, в общении с людьми самых разных судеб и характеров.
Бурьянов – талантливый наблюдатель, чья способность передать мельчайшие детали окружающего мира, будь то дорога в Барабинской степи, сибирские жарки у насыпи или чайки над Ниагарой, вызывает подлинное восхищение. Он пишет не просто о местах – он пишет о своём отношении к ним, о внутренней трансформации, которая происходит в человеке, когда он едет, смотрит, слушает, запоминает. Этот путь – не только географический, но и духовный.
Сила книги в её достоверности. Автор, учёный-геолог, путешествовавший десятилетиями по просторам России и мира, предлагает читателю не сухие отчёты или бытовые зарисовки, а живой, наполненный теплом рассказ о жизни. Его тексты пронизаны иронией, мягким юмором, самоиронией и тонким лиризмом. Отдельного внимания заслуживают дневниковые записи 1971 года – словно живые капсулы времени, в которых запечатлены не только маршруты и километры, но и дух эпохи с её контрастами: заводские столовые, комары в Удмуртии, разговоры с путейцами, пыль дорог, вечерние закаты за Уралом.
«Золотые осколки» – это ода человеку в дороге, человеку с внутренним вниманием, для которого важно не только место назначения, но и сама дорога. Это книга, которую можно читать фрагментами, как роман в письмах самому себе, и при этом она не теряет цельности. Особенно трогательны главы, посвящённые дочери, рождённой в то время, когда отец находился в бескрайних путешествиях. В этих строках чувствуются подлинная любовь и тоска, которые делают этот текст не просто мемуарами, а откровенной исповедью.
Удивительным образом сочетаются в этой книге научная точность геолога, поэтическая чуткость путешественника и человеческая доброта наблюдателя. Автор, не став профессиональным писателем, тем не менее создал литературное произведение, которое можно поставить в один ряд с лучшими образцами русской автобиографической и дорожной прозы. Здесь слышатся отголоски Паустовского, Казакова, Гроссмана, но в то же время звучит уникальный и самобытный голос самого Бурьянова.
Именно такие книги нужны нашему времени – честные, живые, умные, настоящие. Они сохраняют дух ушедшей эпохи, открывают нам богатство внутреннего мира человека, неравнодушного к жизни. «Золотые осколки прошлого» – это не только свидетельство личной истории, но и культурное достояние, наполненное светом памяти, любви и веры в красоту повседневного бытия.
Денис Ковалёв,
рецензент, литературный критик
Выражаю благодарность всем, помогавшим
и поддерживающим меня в написании этой книги.
Отдельное спасибо сестре Рите – редактору
и литературному критику.
Внуку Иннокентию и зятю Марку признателен
за ценные советы
и помощь в компьютерной обработке текста.
Спасибо большое всем!
Жить – значит вспоминать, жизнь – воспоминание. У нас впереди пустота, мы будто спиной туда идём, оборотив лицо назад, и всё видим, вспоминая себя в прошлом.
Юрий Казаков








Мотив пути: «жить нужно странствуя»
Став писателем, я снова с гораздо большей свободой, чем раньше, начал скитаться. Я объездил сожжённые сухим солнцем берега Каспийского моря, глинистые пустыни, Дагестан, Волгу, полярный Урал, Карелию, Север, Мещёрские леса, Каму, Крым, Украину, спускался в шахты, летал, плавал на лодках по глухим рекам, изучал Новгород Великий и Колхиду, калмыцкие степи и Онежское озеро – в поисках людей, в постоянных поисках живых, прекрасных черт новой жизни.
К. Г. ПаустовскийЕсли я перечислю в таком же ключе, где побывал и что видел, наберётся немало. Но это будет слабое подражание великому. Главное, что «жить нужно странствуя».
Я писателем не стал, но походил, побегал, поездил, поплавал и полетал много. Скитаниями это назвать не могу, но о многом, пускай и неумело, написал, оттого что:
• «Хороший путешественник не знает, куда он едет, а идеальный путешественник не знает, откуда он приехал» (Линь Юйтань);
• «Истинное назначение вашего путешествия – это не место на карте, а новый взгляд на жизнь» (Генри Миллер);
• «Путешествие, как самая великая и серьёзная наука, помогает нам вновь обрести себя» (Альбер Камю).
Путешествия – способ познания жизни и возможности описания социальной действительности. В литературе это – эпопея Одиссея и пересказ Д. Джойса в «Улиссе», «Заблудившийся автобус» Д. Апдайка и, если говорить о пути духовном, – «По пути к Свану» М. Пруста (именно по пути, а не по дороге, как было в другом переводе). Если о России, то «Мёртвые души» Н. Гоголя и «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Н. Некрасова, «12 стульев» и «Золотой телёнок» И. Ильфа и Е. Петрова, «Москва – Петушки» В. Ерофеева, «Затоваренная бочкотара», «Круглые сутки нон стоп» и «В поисках жанра» В. Аксенова… И наверняка есть ещё, тут можно искать и искать…
Предваряет путешествия мой очерк «Как я сопровождал машину» (работая в геологических экспедициях). Эти поездки на платформе и есть описание социальной действительности страны – здесь и встречи с людьми, и география, и ботаника, и прочее. А если короче – просто жизнь.
Как я сопровождал машину
Сопровождать машину на платформе – интереснейшее занятие, даже развлечение. Машина стоит, закреплённая на открытой платформе, едет тихо, и просторы кругом видятся не так, как из окна поезда, а значительно шире. В молодости, работая в Центральной геохимической экспедиции при ИМГРЭ (Институт минералогии, геохимии редких и рассеянных элементов – «редких женщин и рассеянных мужчин»), я сопровождал машины несколько раз. Из Москвы в Читу, из Новокузнецка в Москву, из Москвы в Хабаровск и из Владивостока в Москву.
Первый раз это было в 1967 году, после первого моего полевого сезона.
Мы начали в Кузбассе с опробования угольных шахт Прокопьевска и Киселёвска – небольших шахтёрских городков, где я неожиданно в книжном магазине (правда, под прилавком) нашёл Камю, Мандельштама, Бабеля и что-то ещё, чего в Москве в то время не было, а здесь лежало, но никто не покупал.
Из Кузбасса мы переехали в казахстанский Экибастуз, где был огромный угольный карьер – мощные пласты горели, стоял дым и запах, при опробовании пластов несколько раз обжигал зад заклёпками на джинсах. А директором угольного разреза был в то время «великий» Г. Маленков, выведенный из состава политбюро – антипартийной группировки Молотов, Маленков, Каганович и примкнувший к ним Шипилов, сосланный в Экибастуз. Вот отсюда мы с шофёром Володей погрузились на платформу и уехали в Москву. Записей я тогда не вёл.
А вот поездка на платформе в 1971 году с шофёром Олегом, маленьким шустрым пареньком, сохранилась, и я её здесь воспроизвожу.
1971 г. (Жуть: 44 года назад. Лида родилась в ноябре 1970‐го – ей ещё нет года, Наталья только родится в 1975‐м, а мне 27 лет.) Ещё бóльшая жуть – я так долго писал, что уже идёт 46‐й год, как это произошло.
9 июня 1971 г.
Грузились в Митьково, в Сокольниках, с утра, и тронулись только вечером. Много было всяких неувязок и трепания нервов. Уезжали и другие отряды нашей экспедиции и институтские. Провожал нас Николай Николаевич – НикНик, зам. начальника экспедиции по снабжению, толстый, добродушный, хитроватый и пьющий мужик.
Когда все погрузились, прикрутили и оформили, стали отмечать. НикНик шёл вдоль платформ со стаканом в руке, и ему сверху наливали; он крякал, выпивал, желал счастливой дороги и шёл со стаканом в протянутой руке к следующей платформе. У последней его, уже сильно «уставшего», подхватил шофёр, погрузил в газик и увёз.
А нас провожала Ирэн Шарова и Лёшка Топунов, мы крепко «напровожались», и я не помню даже, как тронулись и утром оказались уже на 190 км – недалеко от Мурома, и прикрученной в углу платформы толстой проволокой фляги с водой не было: откусили и спёрли.
Проехали Арзамас. Значит, везут нас пока по Горьковской ветке. Сейчас 9 часов вечера, и проехали мы 430 км. В Арзамасе оказалась рядом столовая, и, пока стояли, пообедали по очереди. А перед этим искупались в озере – я бежал к нему в одних плавках и думал: «Вот смешно будет, если состав вдруг тронется и я отстану!»
Встали сейчас в каком-то лесочке – дубы, липы и много ландышей. Нарвали букет и поставили в банку. Комары летают, и прошёл маленький дождик… Днём было жарко.
10 июня
Вечер, около девяти. Проехали 934 км. Формировались под Казанью. Везут нас на Свердловск через Арск на Вятские поляны, через Удмуртию. В Муроме проехали Оку и до Казани Волгу. Под Казанью места холмистые и молодые сосёнки, я уже проезжал их в 1967 г. Сосновый лес красив и в солнечный день, и в пасмурный, стволы деревьев жёлтые, и в лесу таком словно всегда солнце. По красоте уступает, пожалуй, только берёзовой роще. Впрочем, и одиноко стоящая берёза – тоже прелесть несравнимая. Места здесь мало отличаются пока от подмосковных – хотя сейчас пошли безлесые участки, сильно изрезанные оврагами.
Поехали, и писать уже трудно. В бытовом отношении у нас всё хорошо, я сегодня побрился и умылся под колонкой в самую жару, пока стояли. На платформе красота, стоят цветы. Посередине – сложенная из кирпичей печка со вставленной внутрь паяльной лампой.
11 июня
Проехали к вечеру 1650 км и приближаемся к Свердловску. Вчера одолели часть Удмурдии и Кировскую область – ст. Вятские Поляны. Много леса на станциях, около домов, а сами дома почему-то поразительно бедные, покрытые дранкой крыши почти все заплесневелые и от этого зеленоватые. Пошли холмистые места – Приуралье.
До самого вечера ждал, да так и не дождался настоящих гор. А их и не было. Проехали три тоннеля. Особой красоты не увидел. Правда, начали взбегать по холмам и густым лесом расти в ложбинках узкие, длинные ели – как свечки, – которые поразили меня своей красотой первый раз в Горной Шории в августе 1967 г.
Поздно вечером под Свердловском у станции Ревда мы проехали большое озеро в окружении соснового леса, кругом много палаток и костров. И ещё я видел по пути много купавок. Значит, жарки здесь ещё не растут, вероятно, после Урала пойдут.
К вечеру всё смотрел, когда мы проедем границу между Европой и Азией. На Транссибирской магистрали обелиск стоит где-то за Первоуральском, но здесь я его так и не заметил.
12 июня
К вечеру, но ещё 11‐го, привезли нас в Свердловск, и ночью мы отъехали через Каменск-Уральский, Шадринск на Курган, где сейчас и стоим. По сравнению со вчерашним здесь теплее, вчера мы телогрейки надевали – на платформе, конечно, и на ходу.
Вот и прошёл ещё один наш вечер, и остановились мы в Петропавловске. Уже темнеет, много комаров. Погода весь день хорошая. После Кургана пошли берёзовые лесочки, потом они «выродятся» в колки, и озёра пойдут, круглые и длинные, и будет их ещё множество по дороге в Барабинской и Татарской степях.
Второй раз уже побрился и вымыл голову, но всё равно грязи много кругом. Проехали 2600 км, т. е. за сутки сделали более 1000 км – это уже нормальная скорость. Так бы и дальше, но если б ехали по Транссибирской магистрали от Свердловска на Тюмень и Омск, который стоит на 2716 км, значит, в объезд мы потеряем немного на этом.
13 июня
Вчера уже в темноте прибыли в Петропавловск. Стояли недолго. Ночью был Омск. Уехали в пять утра (по московскому). Сейчас проехали Татарск, едем по Барабинской степи. Колки берёзовые, хорошая земля и богатые сёла, что видно по крышам, крытым шифером (хотел написать фишером) и железом, часто крашенным суриком, в отличие от покрытых дранкой и зеленоватых от мха крыш Удмурдии и Приуралья.
И снова вечер. Мы в Чулыме, 132 километра не доезжая до Новосибирска. Сделали сегодня немного. Всего пока 3200 км. До Хабаровска 8533 км. Значит, завтра, если всё будет нормально, сделаем половину, да и то к вечеру. И это будет шестой день.
Сегодня за окном всё Барабинская лесостепь. Когда стояли в Барабинске, я ушёл далеко, и поезд тронулся. Хорошо, что шёл вперёд, и я за вагонов десять успел вскочить на платформу с комбайнами, прошёл несколько платформ, а дальше о «перейти» не могло быть и речи, потому что упёрся в платформу с цистернами. Ну, благо, что километров через пятнадцать тормознули, и я перебежал к себе на платформу.
Мы, петляя, всё же едем на восток. Каждый вечер солнце садится сзади нас, и мы видим закаты. На Урале солнце заходило за трубами Ревдинского завода, и ветер разматывал розовый дым из труб. А сегодня солнце закатилось за длинные серые облака, они закрывали светило решёткой, и оно, малиново-красное, медленно спускалось за эти облака-решётки. Пожар в замке. А днём были кучевые облака. Небо цвета морской воды, казалось, что вдали море с плывущими белыми льдинами.
Вчера в Петропавловске Олег бросил в почтовый ящик моё письмо, купил полкило сосисок, и мы завтракали картошкой с маслом и сосисками.
Разница с Москвой – четыре часа.
14 июня
Итак, мы уже шестой день в пути. Сейчас день, и проехали 3700 км. Крупные города – Свердловск, Омск, Новосибирск – проезжали в ночное время. Сегодняшней ночью были в Новосибирске.
Утром меня ждали два открытия. Проснулся, вылез из машины и увидел село, двор и в нём играющих в лапту детей – я так играл в детстве и думал, что эта забава уже забыта давно, но, оказывается, нет. И ещё увидал жарки. Не заметил, к сожалению, границы перехода наших жёлтых купавок в оранжевые сибирские жарки. На Урале ещё купавки, может быть, в Барабе они вообще не растут и появляются только где-то под Новосибирском, а его мы проехали ночью.
Олег долгое время жил в бухте Камень на Обской губе, где и теперь живут его родители. Оттого и некоторые его понятия неотрывно связаны с той северной жизнью. Он, например, был очень удивлён, что на озерах барабинских мало или совсем нет диких гусей и уток. У себя он с охоты приносил по десятку гусей.
На подъезде к Свердловску к нам попросились двое мужиков. Они монтажники-вентиляторщики, работают по командировкам в Бисерте, а живут в Ревде. Зашёл разговор о житье-бытье, о жратве. «Вот, – говорят, – у вас в Москве, наверное, всё есть, а у нас в магазинах часто не бывает мяса». Олег очень удивился: «А что же оленей не стреляете в лесу?» – и ещё больше был удивлён, что ни оленей, ни лосей нельзя отстреливать без лицензии, а домашних оленей у них нет. Больше всего Олега поразило, что нет домашних оленей.
Стоим мы сейчас на станции Тяжин, между Мариинском и Боготолом. Время 18:30. Местность чуть всхолмлённая – тайга вдали и поля. На станции разговорился с мужиком – опять же про жизнь. Сажают они здесь огурцы и помидоры. Последние, правда, редко дозревают на грядке. Посоветовал ему плёнку. Живут тут со старухой, дети в Москве. Он правильно сказал, когда я спросил его о жизни: «Если есть руки и голова, жить можно везде». Пенсия у него 49 рублей. Была корова, литров 8–10 давала, продали. Много малины, земляники-виктории, смородины. Совхоз богатый. Весна была хорошая. Посевную провели в первых числах мая, и пшеница стоит уже.
До Урала у Олега было много водки, и он почти на каждой остановке наливал по стопарю кому-нибудь из путейных рабочих. Никто не отказывался, и даже руки тряслись. Один мужик, когда мы рано утром стояли на полустанке, подошёл к нам и спросил, где можно опохмелиться. Из всех, кому мы предлагали выпить, отказался только один, да и тот кореец.
Уже въехали в Красноярский край. Стоим в Боготоле. Синеет вдали хребет Арга. А вблизи всё та же картина. Закат сегодня на почти чистом небе – солнце большое и оранжевое, как жарки. Днём цветы стояли бледные и вдали казались жёлтыми, а к вечеру загорелись ярким оранжевым светом. Их много здесь по дороге – целые поля, – крупные, большие. Здесь ещё цветут яблони, и за всё время нашего пути ещё ни разу не было дождя. И едем мы всё же очень медленно. Кончился шестой день пути, а мы ещё и половины не сделали.
15 июня
Пишу, я правда, утром 16‐го, но даты ставлю, чтобы не сбиться.
Итак, рано утром проехали Красноярск, и снова я не видел ни Енисея, ни моста через него. (Спустя 20 лет я несколько раз прилетал в Красноярск, зимой в сильные сорокаградусные морозы, и увидел и Енисей застывший, и мост через него, и немного побродил по городу.) Долго стояли на Иланской и к вечеру 15‐го сделали 4520 км.
Я уже писал, что кругом много жарков, а нарвать их никак не получается, и вот, наконец, нарвали – будет теперь стоять шикарный букет на пне в центре платформы.
16 июня
Утром у нас уже 5010 км. Днём приехали в Иркутск. Формировались. 5173 км. Сейчас около 10 вечера. Отправляемся.
17 июня
Вчера довольно быстро оформились в Иркутске. Посмотрели, как башмачники работают. Лихо у них получается: под колёса идущего вагона надо подставить башмак, чтобы он не катился со страшной силой, а мягко ударялся в предыдущий вагон. Делается всё на «горке», откуда формируют составы, веером распуская вагоны по путям, а башмачники их своими железными башмаками притормаживают. Когда нас тащили на горку, мы всегда кричали рабочим, чтобы нас стукали потише, и работяги нас понимали и подкладывали лишние башмаки.
Сам вокзал в Иркутске проехали уже в темноте, и Ангару тоже. Теперь электровозы тянут не до Слюдянки, как прежде, а до Петропавловска-Забайкальского, где мы сейчас и застряли и долго уже стоим, потому что нет тепловоза. Не везёт. Байкал проезжали рано утром. Сильный туман и мелкий дождик. Байкал плещется совсем рядом, как море.
Спустя несколько лет, когда я снова сопровождал машину (из Читы, кажется) и мы снова проезжали Байкал, я рискнул искупаться. В плавках, ныряя под вагонами, добежал до берега, плюхнулся с разбегу в холодную воду и хлебнул её, такую вкусную. И назад, тоже, как и прежде, думая, что если состав уйдёт, будет забавно в одних плавках оказаться на ст. Слюдянка.
А спустя ещё несколько лет, перелетая из Нижнеудинска во Владивосток, мы задержались на несколько дней в Иркутске, доехали на автобусе до Листвянки и оттуда с рюкзаками пошли вдоль Байкала. Палатку не брали и спали на пляже на надувных матрацах, глядя на Байкал и звёздное небо над ним. Днём купались, лежали на песке и шли вдоль Байкала, то карабкаясь по скалам, в соснах, то спускаясь к ручьям, пересекая поймы в зелёной траве и берёзах. Прошли так километров 60–70 мимо сёл Большие и Малые Коты и в посёлке Голоустном сели на автобус, доехали до Иркутска и улетели во Владивосток.
Вершина Хамар-Дабан в снегу. А Байкал, вероятно, ещё красивее с высоты, в окружении зелёных сопок и заснеженных вершин, скалистых хребтов, как и Иссык-Куль, в солнечный день в снежной короне Терскей и Кунгей – Ала-Тоо. Пошли сопки, такие знакомые ещё с армии.
Уже вечереет, и я жду не дождусь, когда проедем Баду, где я служил последний год. Хотя прошло уже пять лет, но хочется увидеть здание нашей отдельной роты. Была она выкрашена в ярко-розовый цвет, и оттого называли мы её «розовая рота». Она стоит прямо у железной дороги.
18 июня
Вечер. 71 6440 км. И тронулись мы вчера из Петровска-Забайкальского около 12 часов ночи. Весь день моросил дождь и было холодно. В Петровске разговорился с одной тётенькой. Оказывается, в конце мая здесь прошли сильные дожди, потом заморозки, и багульник, только начав цвести, замёрз, и саранок ещё не было. Почти до трёх часов ночи сидел, пытаясь разглядеть Баду, да так и не увидел нашу роту, а жаль.
На следующий день, перед Читой, началась жара, мы снова в плавках. Читу проехали около 12 часов, тоже стояла жара, и по сопкам цвели жёлтые в крапинку саранки (как маленькие лилии). В Карымском узнал, что здесь и морозов не было, и багульник хорошо отцвёл в «конце апреля – начале мая». Вот как, видимо, действует Байкал на климат Забайкалья.
А места кругом были знакомые, я здесь часто бывал во время службы на учениях – «выбросках в глубокий тыл противника», и бродили мы по сопкам, по лесовозным дорогам с заходами в сибирское село у озера Арей, где солдатиков поили молоком и давали картошку; и весной от цветущего багульника все сопки стояли розовато-фиолетовые.
19 июня
Утро, скорее полдень. Не доехали ещё до Могочи («Бог выдумал Сочи, а чёрт – Могочи»). Отсюда отходит дорога на Тупик, и Оля здесь была на практике, когда училась в университете на геофаке.
Сделали что-то около 6830 км. Саранки пошли уже красные, когда случилась такая перемена, не заметил, – видимо, ночью.
Закончили вчера на 7200 км.
20 июня
Жара приличная, даже ночью. Двигались очень медленно.
Сейчас три часа дня. Проехали Магдагачи 7560 км. Всё же завтра к вечеру или ночью приедем. Вот миновали Шимановск. Значит, осталось нам 800 км. Долго ещё за Читой шли сопки и хребты – Яблоневый, Черского и другие, и закончились они, по существу, сегодня за Магдагачами.
И пошли дубки. Подошло к концу Забайкалье, и началось Приамурье – хотя административно по карте раньше, но географически и ландшафтно вот сейчас. Цветов стало ещё больше: жарки, саранки жёлтые и красные и ещё какие-то цветы – красивые, но с резким запахом.
Уже второй день около дороги огромное количество белых бабочек, и когда глянешь назад, то кажется, будто летит белый пух. Бабочки, что садятся, образуют огромное белое пятно, я такого множества бабочек ещё не видел. У них, вероятно, пора любви.
21 июня
После ровных мест опять пошли сопки, но уже дальневосточные: мягкие, округлые, издали синеватые, невысокие, поросшие дубами. Пошли и долинки, и поля обработанные.
К вечеру приехали в Облучье – это уже Еврейская АО, – очень красивое расположение: кругом сопки, и городок, весь белый, лежит внизу, в долинке меж зелёных сопок, а домики некоторые взобрались на сопки. Река блестит, солнце светит, берега пологие с хорошими пляжами.
Места здесь, конечно, не такие райские, как мне казалось с платформы. Столица Еврейской АО, Биробиджан, – название местности на р. Бире (от названия реки и эвенкийского «Биджен» – «постоянное», «стойбище»), а река Биджан параллельно течёт в 100 км. Широкая пойма полна болот и таит огромные полчища комаров, но привезённые сюда в 1936 году евреи, как сказал всесоюзный староста дедушка Калинин, «это волеизъявление еврейской народности» (кто бы спрашивал!) и здесь не растерялись, а обжились.
Хотя история заселения евреями началась значительно раньше, ещё в 1928 г. И было это вызвано с одной стороны желанием укрепить наши границы (был военный конфликт с Китаем в 1929 г. и в Манчжурии с японцами в 1931-м), а с другой – заселение именно евреями было связано с попыткой наладить отношения с Западом, надеждой материальной помощи от богатых евреев из-за рубежа. Но не очень получилось. Из привезенных 18000 вскоре 14000 уехало и осталось 4000, а вот потом в 1936–1937 гг. приехали переселенцы, не только из России, но и из Америки, Аргентины, Европы, Палестины.

