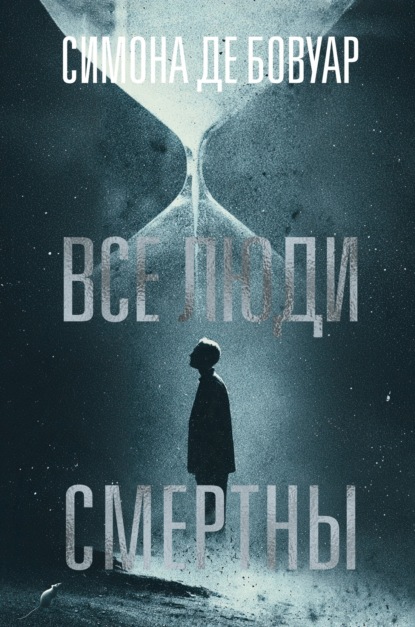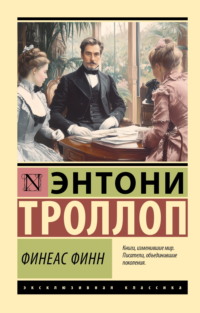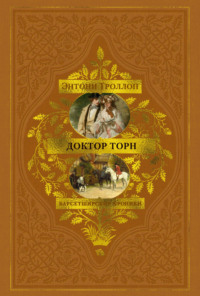Полная версия
Барсетширские хроники: Смотритель. Барчестерские башни
– А я спешу, мистер Болд, ибо мои занятия не оставляют мне досуга, поэтому, с вашего дозволения, сразу перейду к делу: вы намерены отказаться от судебного процесса? – И архидьякон сделал паузу, дожидаясь ответа.
– Да, доктор Грантли.
– Выставив джентльмена, который был ближайшим другом вашего отца, на публичное шельмование в прессе под тем предлогом, что как человек исключительных гражданских добродетелей должны защитить старых глупцов, чье согласие выманили несбыточными посулами, вы теперь обнаруживаете, что игра не стоит свеч и решаете ее прекратить. Благоразумное решение, мистер Болд; жаль, что вы так долго к нему шли. А вам не приходило в голову, что мы, возможно, не захотим так просто оставить дело? Что мы пожелаем возместить причиненный нам ущерб? Известно ли вам, что ваши неблаговидные действия ввели нас в огромные расходы?
Болд был красен как рак и почти смял шляпу в руках, однако не проронил ни слова.
– Мы сочли необходимым обратиться к лучшим юристам. Знаете ли вы, сколько стоят услуги генерального атторнея?
– Не имею ни малейшего представления, доктор Грантли.
– Еще бы, сэр. Когда вы опрометчиво поручили дело своему другу мистеру Финни, чьи гонорары в шесть шиллингов восемь пенсов и тринадцать шиллингов четыре пенса, вероятно, были для вас необременительны, вы не задумывались о мучениях и тратах, в которые ввергаете других. Осознаёте ли вы, сэр, что вам придется выплатить эти колоссальные суммы из собственного кармана?
– Любые требования подобного рода, буде они возникнут, адвокат мистера Хардинга может направить моему адвокату.
– Адвокат мистера Хардинга и мой адвокат! Вы приехали сюда, просто чтобы переадресовать меня к адвокатам? Честное слово, вы могли бы избавить меня от такого одолжения! А теперь, сэр, я скажу вам, каково мое мнение. Мое мнение, что мы не позволим вам забрать дело из суда.
– Поступайте, как вам угодно, доктор Грантли. До свидания.
– Дослушайте, сэр, – сказал архидьякон. – У меня в руках последнее заключение сэра Абрахама Инцидента. Полагаю, вы о нем слышали. Полагаю, ваш сегодняшний приезд вызван именно им.
– Я ничего не знаю ни о сэре Абрахаме, ни о его заключении.
– Так или иначе, вот оно; и здесь вполне ясно изложено, что ни в одном аспекте дела у вас нет ни малейшей надежды доказать свои измышления, что мистер Хардинг так же прочно сидит в богадельне, как я – в этом доме, и что более обреченных судебных процессов, чем ваша попытка погубить мистера Хардинга, еще не затевалось от начала времен. Вот, – и он хлопнул бумагами по столу, – заключение лучшего юриста Англии. И в этих обстоятельствах вы ждете, что я низко вам поклонюсь за любезное предложение выпустить мистера Хардинга из сплетенных вами сетей! Сэр, ваши сети бессильны его удержать, сэр, ваша сеть рассыпалась в прах, и вы прекрасно это знали до моих слов. А теперь, сэр, я пожелаю вам всего доброго. Меня ждут дела.
Болд задыхался от гнева. Он дал архидьякону договорить, поскольку не знал, какими словами прервать его речь, но теперь, после таких оскорблений, не мог выйти из комнаты, не ответив.
– Доктор Грантли, – начал он.
– Я уже все сказал и все выслушал, – перебил архидьякон. – Буду иметь честь попросить вашу лошадь.
И он позвонил в колокольчик.
– Я приехал сюда, доктор Грантли, с наилучшими, наидобрейшими чувствами…
– О, конечно. Никто в этом не сомневается.
– С наидобрейшими чувствами, которые жестоко оскорблены вашим обращением.
– Конечно, они оскорблены. Я не хочу, чтобы моего тестя обобрали до нитки, – какое оскорбление для ваших чувств!
– Придет время, доктор Грантли, и вы поймете, из-за чего я сегодня приезжал.
– Несомненно, несомненно. Лошадь мистера Болда у крыльца? Проводите его до парадной двери. До свидания, мистер Болд. – И доктор ушел в свою гостиную, притворив за собой дверь и не дав Джону Болду добавить еще хоть слово.
Когда тот садился на лошадь, чувствуя себя псом, которого выгнали с кухни, перед ним вновь возник малыш Сэмми.
– До свидания, мистер Болд, надеюсь, мы прощаемся ненадолго. Я уверен, папа всегда будет рад вас видеть.
То были, безусловно, самые горькие мгновения в жизни Джона Болда. Даже мысли о счастливой любви не утешали – о нет, вспоминая Элинор, он думал, что именно любовь загнала его в этот капкан. Выслушивать подобные оскорбления без возможности ответить! Отказаться от столького по просьбе девушки и встретить такое непонимание своих мотивов! Какую ошибку он допустил, поехав к архидьякону! От злости Болд стиснул зубами рукоятку хлыста и прокусил ее до роговой сердцевины, в сердцах хлестнул лошадь и вдвойне рассердился на себя за бессильную злость. Его обыграли вчистую, так обидно и так ощутимо – и что теперь делать? Он не может продолжать дело, от которого пообещал отказаться, да оно и не стало бы желанным мщением – именно к этому шагу подстрекает его противник!
Болд бросил поводья слуге, вышедшему его встречать, и взбежал по лестнице в гостиную, где сидела его сестра Мэри.
– Если существует дьявол, – объявил он, – настоящий дьявол на земле, то это – доктор Грантли.
И этими сведениями ей пришлось удовольствоваться, поскольку Болд вновь схватил шляпу, выскочил из дому и уехал в Лондон, больше никому ничего не сказав.
Глава XIII. Решение смотрителя
Встреча Элинор с отцом была менее бурной, чем та, что описана в предыдущей главе, но едва ли увенчалась бо́льшим успехом. Вернувшись домой от Болда, Элинор застала отца в странном расположении духа. Он не был печален и молчалив, как в тот памятный день, когда зять прочел ему нотацию о долге перед духовенством, но не был и тих, как в обычные дни. Когда Элинор вошла во двор богадельни, ее отец расхаживал взад-вперед по траве, и дочь почти сразу поняла, что он сильно взволнован.
– Я еду в Лондон, – сказал он, как только ее завидел.
– В Лондон, папа?!
– Да, милочка. Мне надо как-то разобраться с этим делом. Есть вещи, Элинор, которые я не в силах вынести.
– Папа, что случилось? – спросила она, ведя его под руку к дому. – У меня для тебя такие хорошие новости, а теперь я боюсь, что опоздала.
И раньше чем он успел объяснить причину своего внезапного решения и указать на роковую газету, лежащую на столе, Элинор рассказала, что судебное дело прекращено, что Болд поручил ей сообщить это от его имени, что печалиться больше не о чем и можно жить так, будто ничего не произошло. Она умолчала, каким пылким упорством добилась уступки и какую цену должна будет заплатить.
Смотритель не выказал особой признательности за услышанное, и Элинор, хотя трудилась не ради благодарности и не склонна была преувеличивать свои заслуги, была уязвлена тем, как отец принял ее известия.
– Мистер Болд волен поступить, как сочтет должным, – сказал он. – Если мистер Болд думает, что был не прав, он, конечно, откажется от начатого, но это не изменит моего решения.
– О папа! – воскликнула Элинор, чуть не плача от досады. – Я думала, ты так обрадуешься… думала, все будет хорошо.
– Мистер Болд, – продолжал отец, – привлек к делу больших людей. Настолько больших, что едва ли в его силах на них повлиять. Прочти, милочка.
И смотритель, сложив пополам номер «Юпитера», указал на статью, которую Элинор предстояло прочесть. Это была последняя из трех передовиц, публикуемых ежедневно для блага страны. Она громила церковников, замеченных в неблаговидных поступках: семьи, которые получают десятки тысяч фунтов ни за что, людей, которые, как утверждала статья, купаются в деньгах, не заработанных и не полученных по наследству, а, по сути, украденных у бедной части духовенства. Упоминались некоторые епископские сыновья и архиепископские внуки, некоторые известные лица, чей образ жизни вызывал у большинства справедливое возмущение. Разделавшись с этими левиафанами, газетчик перешел к мистеру Хардингу:
Несколько недель назад мы упоминали о подобном вопиющем случае, пусть и более скромного масштаба: смотритель барчестерской богадельни забирает себе львиную долю дохода всего учреждения. Зачем богадельне смотритель, мы объяснить не беремся, как не видим особой нужды в отдельном священнике для двенадцати стариков, учитывая, что у них есть скамья в барчестерском соборе. Но так или иначе, пусть упомянутый джентльмен именует себя смотрителем, попечителем или кем ему угодно, пусть ревностно понуждает двенадцать своих подопечных к исполнению религиозного долга и пренебрегает службой в соборе, ясно, что он не вправе претендовать на долю дохода сверх выделенной ему основателем, и столь же ясно, что основатель не предназначал две трети завещанного на личные удовольствия смотрителя.
Разумеется, случай ничтожен в сравнении с десятками тысяч фунтов, о которых мы писали выше, ибо доход смотрителя составляют лишь жалкие восемьсот фунтов в год; восемьсот фунтов сами по себе не великий бенефиций, и мы вполне готовы допустить, что смотрительские труды для церкви куда ценнее, но коли так, пусть церковь и платит ему из собственных законных средств.
Мы упоминаем сейчас о барчестерской богадельне, поскольку начато судебное разбирательство, которое заденет за живое немалую часть английских церковников. Иск против мистера Хардинга от имени пансионеров подал джентльмен, действующий исключительно на общественных началах. Защита будет строиться на том, что мистер Хардинг не берет ничего сверх назначенного ему как служащему богадельни и не отвечает за размер установленного жалованья. Такой довод, безусловно, был бы справедлив, иди речь о поденной плате каменщика или поломойки, однако мы не завидуем чувствам священника англиканской церкви, который позволит вложить в свои уста подобный аргумент.
Мы надеемся, что, если этот довод и впрямь будет выдвинут, от мистера Хардинга потребуют публичного отчета, в чем состоят его обязанности, какую работу он выполняет и каков размер жалованья, а также кем и при каких обстоятельствах произведено назначение. Мы не думаем, что его ждет большая общественная поддержка, которая искупила бы названные неудобства.
Элинор, читая, заливалась краской негодования, а дойдя до конца статьи, едва отважилась поднять глаза на отца.
– Скажи, милочка, – промолвил он, – что ты об этом думаешь? Стоит ли оставаться смотрителем такой ценой?
– О папа… дорогой папа!
– Мистер Болд не может отменить эти слова. Мистер Болд не помешает каждому священнику в Оксфорде… нет, каждому джентльмену в Англии прочесть статью. – И мистер Хардинг заходил по комнате, а Элинор в немом отчаянии следила за ним глазами. – И вот что я тебе скажу, – продолжал он уже очень спокойно, в несвойственной ему вымученной манере, – мистер Болд не сможет опровергнуть каждое написанное здесь слово – и я тоже.
Элинор во все глаза смотрела на отца, словно разучилась понимать его речь.
– И я тоже, Элинор, что хуже всего, или будет хуже всего, если не найдется средства это исправить. Я много думал после нашего вчерашнего разговора. – Он подошел и обнял ее за талию, как тогда. – Я много думал о том, что сказал архидьякон и что написано в газете, и я действительно считаю, что не имею права здесь находиться.
– Не имеешь права быть смотрителем богадельни, папа?
– Не имею права быть смотрителем богадельни за восемьсот фунтов в год, не имею права тратить на себя деньги, предназначенные бедным. Мистер Болд волен поступить, как сочтет нужным, но надеюсь, он отзывает иск не ради меня.
Бедняжка Элинор! Как горько ей было слышать эти слова! И ради этого она принимала свое великое решение! Ради этого отбросила девичью застенчивость и заговорила тирадами трагической героини! Можно трудиться не для благодарностей, но расстроиться, если их не последует, – так было и с Элинор; можно не придавать значения своей самоотверженности, но досадовать, что ее не оценили. Добро надо творить левой рукой так скрытно, чтобы правая об этом не ведала, но как часто левая рука огорчается, не получив немедленной награды! Элинор вовсе не хотела, чтобы отец чувствовал себя ее должником, однако она предвкушала, как будет радоваться, что избавила его от печалей. Теперь этим надеждам пришел конец; все ее старания были напрасны. Она зря смиряла свою гордость, зря умоляла Болда – совершенно не в ее силах исправить зло!
Элинор мечтала, как тихонько перескажет отцу все, что говорил возлюбленный, и признается, что не нашла в себе мужества его отвергнуть, а потом отец нежным поцелуем и крепким объятием благословит ее любовь. Увы! теперь она не могла начать этот разговор! Говоря о Болде, отец отмахнулся от него как от человека, чьи слова, мысли и поступки ровным счетом ничего не значат. Любезный читатель, случалось ли тебе получить щелчок по самолюбию? Случалось ли, что тебя осаживали, как раз когда ты возомнил себя чрезвычайно важным? Таковы были сейчас чувства Элинор.
– Я не позволю выдвинуть от моего имени этот довод, – продолжал смотритель. – Кто бы ни был прав на самом деле, довод точно не соответствует истине, и автор статьи справедливо говорит, что такая защита отвратительна для всякого честного ума. Я поеду в Лондон, сам увижусь с этими юристами и, если они не предложат мне лучших оправданий, уйду из богадельни.
– А как же архидьякон, папа?
– Ничего не попишешь, милочка. Есть вещи, которые человек вынести не может… я этого вынести не могу. – И он положил руку на газету.
– Но архидьякон поедет с тобой?
Сказать по правде, смотритель задумал улизнуть от архидьякона, вернее, оторваться от него на день. Он понимал, что не может предпринять такой шаг, не известив грозного зятя, однако решил написать записку с изложением своего плана и отправить ее перед самым отъездом; доктор, без сомнения, последует за ним, но на день позже. За этот день, если повезет, он устроит все: объяснит сэру Абрахаму, что как смотритель категорически не согласен с предлагаемой ему защитой, и направит другу-епископу прошение об отставке, так что даже доктор ничего изменить не сможет. Прекрасно зная силу доктора и собственную слабость, мистер Хардинг понимал, что не сумеет настоять на своем, если они будут в Лондоне вместе, более того, если архидьякон узнает о поездке заранее, она не состоится вовсе.
– Нет, вряд ли, – сказал он. – Я уеду прежде, чем архидьякон успеет собраться, – завтра рано утром.
– Так будет лучше всего, – ответила Элинор, давая понять, что оценила военную хитрость.
– Да, милочка, да. Вообще-то, я хотел бы сделать все раньше, чем архидьякон сумеет… сумеет вмешаться. В том, что он говорит, много правды. У него хорошо получается доказывать, и я не всегда могу ему возразить, только есть старая поговорка, Нелли: «каждый знает, где жмет его башмак». Он говорит, мне недостает нравственного мужества, силы характера, стойкости – все это правда. И тем не менее я уверен, что не должен здесь оставаться, если единственная моя защита – в юридической закорючке, так что, Нелли, мы уедем из этого чудесного места.
Лицо Элинор просветлело, и она заверила отца, что всем сердцем с ним согласна.
– Ведь правда, милочка, – сказал тот весело и без прежней принужденности. – Что радости в доме и деньгах, если нас будут злословить?
– О папа, я так счастлива!
– Дорогое мое дитя! Мне и впрямь поначалу было больно думать, Нелли, что ты лишишься своей очаровательной гостиной, и лошадок, и сада: его жальче всего, но в Крэбтри тоже премилый сад.
Название «Крэбтри Парва»[7] носил крохотный приход, который мистер Хардинг получил в бытность младшим каноником и который по-прежнему оставался за ним. Он давал всего восемьдесят фунтов в год, дом и угодья были совсем маленькие, и сейчас в доме жил младший священник, однако именно туда мистер Хардинг задумал вернуться. Крэбтри не следует путать с другим приходом, Крэбтри Каноникорум. Крэбтри Каноникорум – великолепный приход, там всего двести прихожан, а угодья – целых четыреста акров, к тому же ректор получает и большие, и малые десятины, а это еще четыреста фунтов в год. Право назначать священника в Крэбтри Каноникорум принадлежит настоятелю и собранию каноников Барчестерского собора, и сейчас этим священником был Досточтимый и преподобный доктор Визи Стэнхоуп. Он же был соборным пребендарием и ректором объединенных приходов Эйдердаун и Стогпингем, или, как правильнее писать, Сток-Пингиум. Это тот самый доктор Визи Стэнхоуп, чья гостеприимная вилла на озере Комо знакома всем знатным английским путешественникам и чья коллекция ломбардских бабочек почитается единственной в своем роде.
– Да, – задумчиво проговорил смотритель. – В Крэбтри премилый сад, но мне будет очень жаль причинять неудобства бедному Смиту.
Смит был младший священник в Крэбтри, содержавший жену и полдюжины ребятишек на восемьдесят фунтов тамошнего дохода.
Элинор заверила отца, что оставит дом и лошадок без тени сожаления. Она так рада, что отец уедет прочь от нынешних прискорбных треволнений.
– Но мы возьмем с собой инструменты, милочка.
И они принялись мечтать, как счастливо заживут в Крэбтри, и придумывать, как устроить это в обход архидьякона, и постепенно между ними вновь воцарилось полное согласие. Потом смотритель все-таки поблагодарил дочь за то, что она сделала, а Элинор, прильнув к отцовскому плечу, наконец-то смогла открыть свой секрет; и мистер Хардинг благословил свое дитя и сказал, что ее избранник – человек добрый, честный и в целом благонамеренный, которому не хватало лишь хорошей жены, чтобы окончательно его образумить, «такой человек, – закончил он, – которому я могу смело вверить свое сокровище».
– А что скажет доктор Грантли?
– Что ж, милочка, тут ничего не попишешь… мы к тому времени будем в Крэбтри.
И Элинор убежала наверх приготовить отцу дорожное платье, а смотритель вернулся в сад, чтобы сказать последнее «прости» каждому дереву, каждому кусту, каждому любимому тенистому уголку.
Глава XIV. Гора Олимп
Истерзанный душевно, готовый стенать от несправедливой обиды, корящий себя и вообще несчастный во всех отношениях, Болд вернулся в свою лондонскую квартиру. Как ни прискорбно прошла встреча с архидьяконом, обещание, данное Элинор, надо было выполнять, и он с тяжелым сердцем приступил к неблагодарной задаче.
Лондонские адвокаты, нанятые для ведения дела, выслушали указания Болда с изумлением и явным недовольством; впрочем, им оставалось лишь подчиниться, пробормотав, как они сожалеют, что теперь все издержки лягут на их нанимателя – тем более что немного упорства, и те же самые издержки присудили бы другой стороне. Болд отряс с ног прах конторы, которую последнее время так часто посещал, и еще не спустился по лестнице, как наверху уже начали готовить все необходимые документы.
Следующей заботой Болда были газеты. О деле писало не одно издание, но не было сомнений, что лейтмотив задает «Юпитер». Болд очень сблизился с Томом Тауэрсом и частенько обсуждал с ним дела богадельни, однако не мог сказать, что статьи в этой газете написаны по его наущению и даже что их действительно пишет его друг. Том Тауэрс никогда не упоминал, что газета выберет такой-то взгляд на события или займет такую-то сторону. Он был чрезвычайно скрытен в подобных вопросах и решительно не склонен болтать о мощном механизме, одним из тайных приводных ремней коего имел привилегию состоять. И тем не менее Болд был убежден, что именно Тауэрсу принадлежат ужасные слова, посеявшие в Барчестере такое смятение, и считал своей обязанностью позаботиться, чтобы подобное не повторилось. С этой мыслью он направился из адвокатской конторы в лабораторию, где Том Тауэрс посредством искусной химии составлял перуны для уничтожения всяческого зла и насаждения всяческого добра в этом и другом полушарии.
Кто не слышал о горе Олимп – заоблачном средоточии типографской власти, где восседает богиня Строка, о дивном чертоге богов и бесов, откуда, под немолчное шипение пара и неиссякаемый ток кастальских чернил, исходят пятьдесят тысяч еженощных эдиктов для управления покорной страной?
Бархат и позолота не составляют трона, золото и драгоценные каменья – скипетра. Трон зовется так, потому что на нем восседает монарх, скипетр – потому что его сжимает августейшая длань. То же и с Олимпом. Случись чужаку забрести туда в скучный полдень или в сонные часы раннего вечера, он не увидит храма мощи и красоты, капища всесильного Громовержца, не различит гордого фасада и колонн, держащих свод над величайшим из земных властителей. На взгляд непосвященного, гора Олимп – место малопримечательное, скромное и даже почти убогое. Она стоит особняком в огромном городе, поблизости от человеческих толп, однако не обращает на себя внимания ни шумом, ни многолюдством, – маленькое, уединенное, бедное здание, которое наверняка снимают непритязательные люди за самую щадящую плату. «И это Олимп? – изумится случайный прохожий. – Из этого темного и тесного домишки исходят непререкаемые законы, обязательные для епископов, кабинетов и обеих палат, наставляющие судей в юриспруденции, военачальников – в стратегии, адмиралов – во флотской тактике, а уличных торговок апельсинами – в правильном обращении с тачками?» Да, мой друг, – из этих стен. Отсюда исходят единственные непреложные буллы для руководства телом и духом британцев. Этот маленький двор – английский Ватикан. Здесь правит папа – самопровозглашенный, самопомазанный и, что еще удивительнее, сам в себя верящий! И если вы не можете ему покориться, советую вам непокорствовать как можно тише. Этот папа не страшится пока ни одного Лютера; у него есть своя инквизиция, карающая еретиков так, как не снилось самым жестоким инквизиторам Испании. Он анафематствует без страха и оглядки – в его власти сделать вас изгоем, от которого отвернутся лучшие друзья, чудищем, на которое станут показывать пальцем.
О небеса! И это гора Олимп!
Поразительный для смертного факт: «Юпитер» никогда не ошибается. Какими трудами, с каким тщанием мы выбираем достойнейших мужей в главный совет страны! И как бесплодны наши труды и тщание! Парламент всегда не прав: загляните в «Юпитер» – и узнаете, как пусты заседания, как бесполезны комитеты, как напрасны прения! С какой гордостью мы смотрим на наших министров, великих слуг государства, чьей мудрости вверено наше благополучие! Но кто они для авторов «Юпитера»? Эти мужи сообща ищут, как наилучшим образом устроить дела страны, но «Юпитер» объявляет, что все их решения – гиль. Зачем смотреть на лорда Джона Рассела, зачем слушать Пальмерстона и Гладстона, если Том Тауэрс может без труда открыть нам глаза? Гляньте на наших полководцев, сколько ошибок они допускают, на наших адмиралов, как они бездеятельны. Все, что могли сделать деньги, честность, наука, сделано, но как же дурно снабжают нашу армию, как бездарно ею руководят! Лучшие из лучших наших людей кладут все силы, чтобы снарядить в море наши корабли, – попусту! Все, все не так, увы, увы! Том Тауэрс, и он один, знает, как надо. Почему, почему вы, о земные министры, не следуете в каждом шаге указаниям этого небесного посланца?
Не лучше ли нам было бы вручить все бразды «Юпитеру»? Не разумней ли оставить никчемные разговоры, праздные раздумья и зряшные труды? Долой большинство в палате общин, долой вердикты коллегии судей, которых надо дожидаться так долго, долой сомнительные законы и слабые усилия человечества! «Юпитер» выходит ежедневным тиражом пятьдесят тысяч экземпляров, и каждый содержит исчерпывающие решения по всякому земному вопросу; Том Тауэрс может и хочет вести нас и направлять.
Да, может и хочет направлять всех во всем, лишь бы ему подчинялись неукоснительно: пусть неблагодарные министры не ищут себе иных коллег, кроме тех, кого одобрил Том Тауэрс, пусть церковь и государство, юриспруденция и медицина, коммерция и сельское хозяйство, наука войны и наука мира слушают и повинуются – тогда наступит общее благоденствие. Разве Том Тауэрс не всевидящ? От копей Австралии до приисков Калифорнии – все на поверхности обитаемого земного шара открыто его взгляду. Он один вправе судить о соответствии должности любого лица, будь то епископ в Новой Зеландии или несчастный искатель Северо-Западного прохода. Лондонские клоаки и железная дорога в Индии, дворцы Санкт-Петербурга и лачуги Коннахта равно не имеют от него тайн. Дело англичан – читать и выполнять веления. Лишь глупцы сомневаются в мудрости «Юпитера», лишь безумцы оспаривают изложенные им факты.
Даже в стране, где государственная религия утверждена законом, есть атеисты; у всякой веры найдутся хулители, ни одна церковь не сумела полностью избавиться от инакомыслия. Есть те, кто сомневается в «Юпитере»! Они дышат одним с нами воздухом и ходят по одной с нами земле – люди, рожденные английскими матерями и вскормленные английским молоком, наши соотечественники, смеющие утверждать, что у «Юпитера» есть цена и Тома Тауэрса можно купить за деньги!
Такова гора Олимп, рупор премудрости нашей великой страны. Вероятно, можно сказать, что ни одно место в девятнадцатом веке не достойно более пристального внимания. Ни одно предписание, под которым поставили свои имена все члены правительства, не имеет и половины власти бумажных листов, выпархивающих отсюда без всяких подписей!