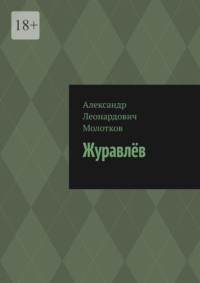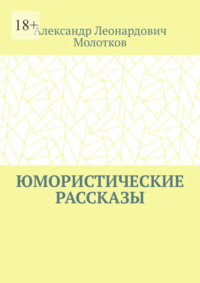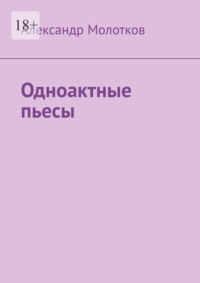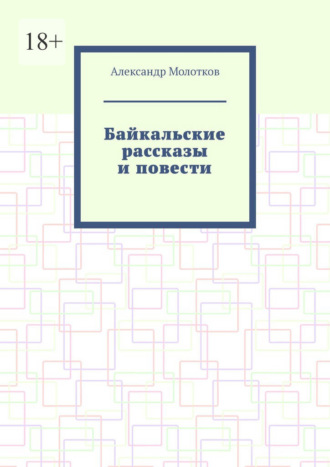
Полная версия
Байкальские рассказы и повести

Байкальские рассказы и повести
Александр Леонардович Молотков
© Александр Леонардович Молотков, 2025
ISBN 978-5-0068-1480-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Посвящение
Наверное, природа в силу своих законов, а именно: ветров, холодов, палящего солнца и частых затяжных дождей, порождает стойких людей в борьбе за выживание. Тогда под влиянием красоты и буйства природы формируются человеческие характеры: воля, смелость, настоящая дружба и настоящая любовь.
Наш поселок Усть-Баргузин расположен на берегу славного озера Байкал. Жители нашего поселка – добрые, приветливые люди. В основном здесь проживает трудовой народ: рыбаки, охотники, лесорубы, научные работники, изучающие флору и фауну Байкала, а также школьники и пенсионеры. Местные жители никогда Байкал не назовут озером. Вас же они вежливо поправят: Байкал – море… Байкал – батюшка, кормилец. Байкал строг, могуч и глубок. Байкал может обидеться и не дать рыбы, или заберет к себе, как дань. Поэтому местные люди здесь говорят: «Ушел в море», «Пришел с моря», «Утонул в море», «Шторм на море».
Вот так это будет по-местному. И даже не пытайтесь поправлять – море, и всё!
Наш поселок находится в низовье Баргузинской долины, там, где в Байкал впадает река Баргузин. Посёлок расположен в устье реки Баргузин, поэтому и носит название Усть-Баргузин. Река и тайга – невиданной красоты.
До Октябрьской революции здесь была фактория купца Куппера: добывали пушнину чёрного баргузинского соболя, ловили омуля, сплавляли лес – всё это скупал за бесценок хозяин Куппер. Местные люди – буряты, тунгусы, якуты, русские поселенцы, беглые каторжане, сосланные царём поляки после польского восстания. Редко добирались до наших мест царские власти: то дорогой помрут, то люди лихие порешат и прикажут долго жить. Один Куппер со своей бандой был и закон, и судья.
Все поменялось, когда царский конвой доставил сюда политзаключённого Кюхельбекера Вильгельма Карловича. Этот ссыльный каторжанин был лицейским другом А. С. Пушкина. Местные звали его Карлычем. Не в один день, но за очень короткое время Вильгельм Карлович навел порядок на фактории. Справедливость была восстановлена. Куппер схватил награбленное и скрылся – по таежным тропам ушел в Китай. Душ он загубил много. Когда приехали царские жандармы, его уже было не догнать.
А Кюхельбекер отстроил в селении Баргузин лиственный дом, народ ему помог в строительстве (ныне здесь действующий музей), наладил свой быт и стал помогать людям, так как все сплошь были неграмотные. Шли люди к Карлычу за советом, кому прошение написать, кому спор по закону рассудить, – любили у нас его за справедливость.
Шли годы… После десяти лет проживания в Баргузине Кюхельбекера перевели в Тобольск. Провожая его, народ плакал: уж такой был хороший и справедливый человек Карлыч.
И снова шли годы. Гремели где-то революции, и вот явилась она – советская власть. С нее и наступил рассвет в нашей глухомани.
Первое, что сделала Советская власть — она приступила к строительству нашего Усть-Баргузинского рыбозавода. И вот в 1936 году наш завод был запущен в работу. Одновременно были организованы леспромхоз, зверосовхоз, построили большую трехэтажную школу, вечернюю школу. Каждый год, что грибы в лесу, строились: больница, ясли, детсады, дворец культуры. Возводились и организовывались пожарная часть, милиция, гостиница, организовывались рыбоохрана, метеостанция и многое другое. Все это построила Советская власть.
Моя бабушка, Иванова Антонида Анисимовна 1899 года рождения, сказала как-то мне, своему внуку: «Как хорошо мы стали жить, умирать не хочется».
Дожила она до развала Советского Союза и в 1993 году, умирая, подозвала меня к себе, перекрестила и сказала: «Как вы теперь жить будете?»
Спасибо великому создателю природы и Богу. Спасибо, за то, что дал нам Байкал. Батюшка Байкал прокормил нас, детей его. Выжили в девяностых годах и дальше живем. Спасибо тем людям, первым строителям Усть-Баргузина, за все спасибо, мои земляки!
Молотков А.
Проза
Памяти брата посвящаюОренбургский пуховый платок
Рассказ
И всё-таки она решилась… Решилась ехать, не зная пути, направления, расстояния. Ей еще ни разу не приходилось за её долгую жизнь ездить на поезде.
Она слышала от соседки-хохлушки, что это долго и скучно ехать на Украину много суток, да еще с пересадкой в Москве. Но ей ехать ближе, в Нерюнгри, это там, где добывают алмазы. Это – Якутия, думала она, успокаивая себя. Она прикидывала своим еще не застаревшим умом: сначала до Улан-Удэ, потом на железнодорожный вокзал в кассу, ну, а дальше люди подскажут – мир не без добрых людей. А трое ли суток ехать ей, мучилась в сомнениях она. С Нерюнгри ей добраться до поселка Чульман, там улица Комсомольская, общежитие. Двадцать лет назад, как оттуда была последняя весточка от сына Николая. Прислал в первый год, как завербовался на север, два письма: алмазы буду добывать, мама! Так с той поры ничего, ни письма, ни открытки.
Одноклассница старшего сына, Анна Роева, когда приезжала погостить у родителей, говорила ей:
– Тётя Маша, поселок Чульман недалеко от нас, мы живем в Нерюнгри, а на автобусе час езды от автовокзала до Чульмана. Мы, когда с мужем ездили торговать по округе, видели вашего Колю. Он был в Нерюнгри на вокзале, живой, здоровый, — и засмеялась…
Это потом односельчане ей рассказали, как Анна в магазине знакомым говорила, что встретила Колю – бомж: «Ой, не поверите, чуть не родила – Колю увидела. Не узнала даже: с бородой, в телогрейке, ватники на нем, все замусолено, грязный, а воняет от него за версту ужасно. Сидит у крыльца вокзала с красным баяном и играет прохожим. Шапка лежит перед ним, в нее мелочь кидают люди. Вот как алмазы добывает Колька».
Она была права: Колька давным-давно нигде не работал. С прииска его уволили на первом году работы. Несколько лет он всё устраивался на работы, но его хватало после устройства до первой получки или аванса. Из общаги попросили – пил и буянил в угаре, семья давно у Кольки развалилась, да и не было семьи, просто сожительнице надоел он, неудачник, и она ушла к другому. Хорошо, что не было детей, не надо платить на содержание их. А тут еще грянула перестройка со своим консенсусом…
Баян Колькин с утра звучит хрипло, кое-где фальшивит. Играет что-то, чаще – «Полонез Огинского», но все это вяло, разбито. Колька со злостью кричит: «Подайте на чуток, расшевелю огонек!»
Некоторые люди кидают в Колькину шапку мелочь: наверное, знают его давно и знают, что Маэстро надо. Некоторые с укором говорят Кольке:
– Работать не пробовал? – на что Колька отвечает:
– Я по законам божьим живу, птичкой летаю, зернышко клюю, как она – не сею, а только лишь пою, – и в сердцах добавляет: – Лучше пить водку, чем кровь трудового народа.
Через некоторое время возле голяшки его сапога оказывается чекушка, пластмассовый стаканчик и корочка чёрного хлеба…
И действительно – музыка полилась на голову разинувших рот прохожих, музыка с вариациями, плавно переходящая в душевное попурри. Баян уже не шепелявил, выговаривал каждую нотку, паузу, нюансы. Люди останавливались, слушали, кто-то подпевал, у кого-то поднималось настроение, а один мужчина, заслышав «Славянку», начинал маршировать на месте, наверное, был когда-то военным.
Колькина игра уносила людей от житейских трудностей, проблем, неустроенности и скоротечности самой жизни в мир гармонии, чистоты, – уносился туда и Колька.
А ранней весной, когда еще стояли якутские морозы, Анна с мужем приехали на своем грузовике-автолавке поторговать у железнодорожного вокзала. Не беда, что товар китайский, зато продается влет, а мужу это сильно нравится, он даже уволился с основной работы, стал крутым коммерсантом. На производстве денег таких не платят, да и зарплату по полгода задерживают.
Муж был рад: торговля на вокзале сразу пошла хорошо. Он давал Анне советы, чтобы она улыбалась всем, была вежлива, сам пересчитывал деньги и легко умножал в уме. Анну, как только они подъехали, заинтересовала музыка, доносившаяся с той стороны железнодорожного вокзала: какая-то знакомая мелодия из далекого прошлого. Муж заметил, что жену настораживает музыка. Он одернул её злобно: «Ты торговать приехала или на бичей внимание обращать? Пока деньга валит, работай шустрее, ворон считать не надо!»
Выразив свое недовольство, он скривил лицо. Анна думала: не бьет, не пьет, не курит, а что деньги у него в одном кулаке, и имеет он к ним любовь патологическую, так и она не лыком шита – все равно деньжонок у него тихо позаимствует, и он не узрит своим всевидящим оком.
Когда после обеда торговля стала затихать, и все реже и реже стали брать товар, муж сказал: «Поедем на заправку, надо „коня“ нашего заправить».
Анна попросилась у мужа остаться на вокзале: походить по ларькам, посмотреть цены, – муж согласился. Когда он уехал, Анна подошла к незнакомцу, который играл на баяне.
…Под незнакомцем – раскладной замусоленный стульчик, а сам он был словно не от мира сего: волосы с проседью, неопрятно-грязная борода. Шапка с накиданной мелочью лежала возле него. Лысина этого бедолаги была серого цвета, в коростах, свисали пряди-сосульки давно не мытых волос. У этого человека были впалые щеки и кривой в переносице нос. Когда Анна посмотрела незнакомцу в глаза, её что-то кольнуло в сердце – голубые, как ягода голубица у них на Байкале, что-то из прошлого, уже такого далекого….Но она не узнала Колю.
Она слушала игру этого бедолаги, хотела кинуть в его замусоленную шапчонку рубль, но раздумала: деньги ей самой ой как нужны.
Но незнакомец её понял, повернулся к ней, остановил баян. От испуга она не сразу пришла в себя.
– Здравствуй, Аня!
Она еще долго смотрела на незнакомца, пытаясь в нем узнать знакомого или хоть раз пересекавшегося по жизни с ней человека – сердце ничего не подсказывало ей.
– А… Вы кто? – спросила она, но вдруг ноги её подкосились, и закружилась голова.
Только когда она снова увидела его глаза и услышала голос, поняла – это Коля.
– Да, Аня, это я!
И она вдруг выпалила:
– А тебя потеряли. Тебя, Коля, лет двадцать родные ищут.
– Ну и что? Нужен я им?
– Да как ты смеешь, Коля?! Брат твой, сестра, мать, отец – все по тебе извелись, даже в передачу «Жди меня» письмо отправляли, в прокуратуру обращались, но про тебя ни слуху, ни духу.
– Нужен я им… – повторил он, отвернувшись в сторону.
…Они молчали… Казалось, меж ними проплыли картины: их детство, юность, первая любовь, расставание и Колькин призыв в армию.
Колька попал на службу в Морфлот на три года на атомную подводную лодку акустиком. Анна, конечно, не дождалась. Через два года она встретила на танцах у них в дк ловкого северянина. Она сдалась, повелась, как щука на блесну, прямо на отцовской лавочке после танцев. Николаю еще писала, но, когда живот невозможно было скрывать, попросила мать обо всем написать Николаю.
Колька не хотел вспоминать, как тряслись его руки, тошнота постоянно стояла у горла. Он днями не выходил из отсека своей пеленговой станции.
Лишь командир сказал ему тогда: «Держись, мы подводники!»
Боль еще долго жила в нем, но уже это он стоял над болью.
А детство их было безоблачно. Они жили по соседству. Вместе учились, вместе ходили в музыкальную школу. Николай учился по классу баяна, а Анна – на фортепьяно.
Веселые были времена. Анне хватило учебы на полгода. «Медведь на ухо наступил», – так говорил Иннокентий, отец Анны, – пусть носки на рыбалку вяжет – и то польза». Пианино он продавал два года. «Ух и дорогущая, – говорил он, – одних дров две поленницы нарубишь в аккурат. Да дочка одна – что не купишь ради единственного ребенка?»
А Колька закончил музыкалку с отличием, получил диплом об окончании детской музыкальной школы, и его путь лежал прямо в музучилище. Колькин педагог гордился Колькой: уж таким способным было это юное дарование, что учитель Иванов А. П. уделял Кольке больше времени, чем другим ученикам.
..Но армия испортила всё. Не ожидал Николай, что так много изменится в его судьбе.
Да, было их с Анной время! Колька вечером выходил на свою лавочку у отцовского дома, садился, расправлял меха баяна «Восток» и начинал концерт по заявкам собравшихся вокруг него молодых и старых односельчан.
Музыка плыла над белыми шапками высоких гор-гольцов, над гладью за день успокоившегося Байкала. Радостно подпевал Колькин друг собака Кучум, будто он тоже ас в человеческой музыке. Но всем было так хорошо, что не хотелось расходиться до самого утра.
Что уж говорить, Колька играл и по нотам, и по слуху, и на подбор старинные каторжанские песни. Свадьбы, именины, проводы не проходили без Николая и его баяна.
– Ты, Коля, матери почему не пишешь? – спросила Анна, вырвав его из далёких воспоминаний.
– А что писать? Все по-старому… Бомж я, – со злостью сказал он, – живу в теплом коллекторе, с женой давно как расстались, да и не жена она мне была, а сожительница. После тебя, Анна, так никого и не полюбил. Конечно, может, и ищут меня родные, да дежурный милиционер забрал паспорт, третий год на него работаю. По двести рублей отдаю каждый день – принеси и отдай этой государственной морде! – а то из коллектора вышибут, и пойдешь по «обезьянникам». Вот такая жизнь, Аня.
– Но, Коля, можно же куда-нибудь пожаловаться? – спросила Анна.
– Нет, исключено. Всё повязано у них: крыша, чем выше, тем больше денег снизу берет. Так что за кусок хлеба им спасибо, да еще двоих ко мне в коллектор приютили – металл им рыщут и сдают. Деньги отдаём, а так бы и не выжили в эти якутские холода.
– Коля, я вот подсчитала, ты двадцать шесть лет не был дома. Ты где был?
Колька молчал…
– У тебя, Коля, отец семь лет как помер, а мать глазами мается, все на тракт ходит – автобусы встречает с города.
Колька налил в пластмассовый стаканчик водки, приподнял его, чуть плеснул на землю за помин души родителя, разом влил его себе в рот.
– Водочка тебя довела до такой жизни, Коля! – сказала Анна, – Посмотри, на кого ты похож, а я любила тебя одного!
Он посмотрел на нее… В его голубых глазах мелькнуло что-то из прежней жизни и из прошлого; он тихо сказал:
– Я рад за тебя, Аня. Мне теперь и умереть не страшно.
Он отвернулся, взял на колени баян и тихо заиграл «У беды глаза зеленые». Она постояла возле него, дорогого ей когда-то человека, но краем глаз увидела, как подъезжала их машина-автолавка со всевидящим мужем. Анна подумала, что надо молчать – себе дороже будет.
…А мать собралась. Первое, что она сделала – это доковыляла, опираясь на кривую палку, до автостанции. Совсем просто было расспросить кассиршу, куда ей надо. Она купила билеты на завтра, записала всё на бумажке, которую завернула в платочек. Завтра автобус, потом железнодорожный вокзал, билеты и на поезд «Москва-Нерюнгри» она купила, вагон номер шесть, и ждать недолго: в девятнадцать ноль-ноль отходит, она везде успевает. Мать не мучили уже вопросы и неизвестность: она завтра поедет к сыночку.
А сентябрь на Байкале заиграл: закипели краски над хрустальной водой. Черёмуха стала красная со своими листьями, плоды же её ягод налились и глянцевой чернотой показывали свою спелость. Небо вдруг стало синим-синим, и короткая байкальская волна тихонько лизала песчаный плёс.
Стояло бабье лето. Не было даже ветерка. Осмелевшие мушки и стрекозы садились на воду, где их поджидала рыба. Можно было видеть большие круги довольно крупной рыбы. Вечера тоже в эти дни стояли тихие. Только иногда на ближних болотах раздавалась оружейная канонада – это местные мужики открыли сезон охоты на утку.
Она собиралась в дорогу. Маленький чемоданчик, с которым ещё покойный муж ездил в командировки, – положила туда немудрёные свои одежды: жакет, халат, тапочки, запасной гребешок. Все не могла определиться с узелочком, в котором лежали деньги. Но выручила соседка-хохлушка. Разделив сумму на три части, она сказала:
– Вот так, милая, будет лучше!
Часть денег она положила ей в кошелёк, часть засунула матери в бюстгальтер, а еще часть уложила на дно чемоданчика.
– Вот так, хай чё украдут, а чё и останется!
Она рассказала матери, как мужа своего на Украину погостить отправляла:
– Ну, туда-сюда деньжонки ему спрятала, а часть к трусам карман пришила и денюжку туда ховала. А уж утром проснулись, он впопыхах, да на скорую руку, – трусы не одел даже, так дома и остались они с деньгами возле кровати. Проспали мы всё конечно, но на автобус успели. Вдруг на другой день телеграмма: «Вышли денег, сижу в Улан-Удэ». Ой, мама, стала я добро разбирать, а трусы-то его с деньгами за кроватью в пыли лежат, вот смеху-то было, все время вспоминали, молодыми были, – смеялась она весело и заразительно.
А мать вспоминала своего доброго любимого мужа. Прожили они более пятидесяти лет, да болезнь эта пристала к нему. То ли от переживаний за старшего сына, но болезнь совсем не поддавалась лечению. А когда умирал, только и сказал: «Колю я не увижу, вы не обижайте его». Сказал и помер.
Когда он умер, кажется, и она умерла… Боль не покидала её, только младшие дети и внуки держали её на этом белом свете.
…А рассвет наступил. Он пришел на землю, как тысячи миллионов лет назад. Наверное, на земле нет ничего такого же постоянного, как рассвет и материнское чувство настоящей любви к своим детям.
Цокая палочкой по твердой дороге, она доковыляла до автостанции. Чемоданчик и узелок мешали ей идти, но какая бы ни была трудная дорога, её мысль была сильней – ей надо увидеть сына. А вот и автостанция, вот и народ, всё как-то веселее сердцу. Добрые люди уступили ей переднее место, а водитель автобуса, веселый и приветливый паренек, сказал ей: «Бабушка, если почувствуете себя плохо, скажите мне, я остановлюсь, передохнем чутка».
Ей стало так тепло на душе, что она готова была терпеть любые дорожные муки.
…А Колька пил. Он давно бросил вызов этому всесильному богу Дионису… Душевные и физические его силы были на исходе. Все пожирал всемогущий Дионис. Его бойцы – алкоголь и забыть – уравняли даже ночь и день, все смешав в крутящемся аду. Ему виделось, что у озера с прозрачной водкой сидели люди: профессора, генералы, врачи, студенты, женщины и мужчины, молодые и пожилые. Но никто не хотел уходить от этого озера, всем было легко и весело на том берегу…
Колька проснулся и закричал: «Нет!», но удушье коллектора и жажда выпить одержали верх.
Трясущейся рукой нащупав в кармане телогрейки чекушку, он жадно выпил, что оставалось, и эта спасительная влага привела его в чувство и возвратила в реальность.
Уже прошло два года, как видел он Анну. Муки стыда улеглись и сгорели в его одинокой душе. Всесильный Дионис сжигал память, отправлял его по дороге забвенья, и уже с трудом он помнил, что есть где-то мать, брат, сестра, родственники и сослуживцы. Один только милиционер каждый день выгонял его и двух бомжей на работу, увеличивая сумму сборов.
За эти одинокие годы у Кольки в коллекторе появились еще два жильца. Конечно, с разрешения главного милиционера по вокзалу. Задачу им поставили простую: собирать металл, банки алюминиевые, стеклотару, деньги отдавать главному милиционеру – план был щадящий. За это – жизнь в коллекторе и относительная свобода, а так же прикрытие: паспорта у них тоже забрал главный милиционер.
Колькины жильцы-напарники были такими же бездомными бедолагами.
Первым в Колькин коллектор как-то осенью пришел старый Колькин знакомый по кличке Циклоп. Так его уже лет десять звали с тех пор как он потерял один глаз. Как в жизни не упустить удачу? Толик Скосыров знал, как ее потерять. Зубной врач-протезист, всегда был врачом – золотые руки. Работа после института шла успешно. Семья, жена-врач, хороший заработок, квартира…. Но все это разом рухнуло. В ресторане, где Толик Скосыров загулял, произошла драка. Кто Толику ткнул в глаз вилкой, теперь и не найдешь, да глаз к утру вытек. Когда Толик очнулся на утро, глаз пришлось удалять.
Работал он и дальше, но осторожный клиент меньше стал доверять одноглазому зубнику. Жене дали повышение, и она стала сторониться Толика. Решил сам открыть свою зубную клинику. Нашлись и здание, и оборудование, цены наполовину ниже, но жена почему-то подала на развод. После развода она стала заведующей клиникой. Тут Толик и отдался зеленому змию. Долги росли, платить нечем, продал свою однокомнатную, хотел уехать к родителям, но деньги быстро кончились. Тут он и вспомнил про Колю-Маэстро. Пришел к Кольке в коллектор, милиция дала добро, прибавив план на добычу металла.
Третий друг совсем случайно попал к ним. В сорокаградусный якутский мороз, отработав на вокзале, они шли в свой «номер». Уже подходя к коллектору, Колька запнулся обо что-то, и это что-то замычало. Раскопали снег – человек. Молодой парнишка был беспробудно пьян и скоро заснет навечно.
Скорее его в коллектор: оттереть руки, ноги, спирту не пожалели – человек же. Тут врач Циклоп применил все свои навыки, с достоинством отдаваясь клятве Гиппократа. Паренька спасли и когда расспросили… На вокзале с молодыми девицами пил в ресторане, а дальше не помнит ничего. Нет денег, паспорта, билета до Москвы, чудом сам остался жив. Что делать? Пошли к старшему менту. Тот рассудил по-своему:
– Пока ищем паспорт и девиц, поживи с ребятами в коллекторе, поработай, как они, а весной поедешь до своей Москвы. Конечно, Колька все понял: девиц милиционер хорошо знал – извечные друзья, работают вместе. План, конечно, повысили, но дали тележку на одном колесе – собирать и свозить стеклотару в вагончик по договоренности. Молодому дали кличку, вернее, милиционер сказал, – «Позывной «Клёпа». Над Клёпой взяли шефство его спасители. Водку парню пить слишком не давали: не умерен был их младший товарищ: терял рассудок, если выпивал не в меру.
Жизнь их походила на один день. Играет Колька на баяне, друзья в стороне сидят на кукурках, как говорят в народе, смотрят, сколько в шапку набросали; скорей бы набралось на похмелку, да по местам, по мусоркам. Вот набралось на пол-литра спирта, жизнь веселей пойдет!
Только выпили, разыгрался Колька, вдруг подходят их покровители, два дежурных милиционера. Они берут Кольку под руки, берут его стульчик и баян, повели к себе в здание вокзала в свой кабинет. Привели Кольку в кабинет, посадили на стул как путного, уважаемого человека:
– Слушай, Маэстро, – начал тот, которому платил уже который год дань Колька, – ты домой хочешь?
– Хочу, но паспортина моя у вас, – сказал в ответ Колька.
– А на тот свет хочешь? – продолжил старший мент. – Кто тебя, бедолагу, искать будет?
Он улыбался так же ехидно, когда принимал от Кольки деньги. Помолчав, он продолжил:
– Вот, Маэстро, тебе партийное задание: у цыган мы конфисковали, – он опять хитро засиял своей улыбкой, вспоминая что-то приятное, – тридцать оренбургских пуховых платков. Твоя задача – сбыть их торгашам, ты с ними знаком, да и торгаши тебя знают. Но цена их немалая: пять штук за платок, а денежки мне лично. Свободу себе выкупишь, это мы тебе обещаем. Обманешь – закопаем глубоко-глубоко, никто не найдёт. Ты понял, Маэстро? За много лет ты надёжно себя зарекомендовал. Не стучишь, не жалуешься, как некоторые. Меня скоро переведут отсюда, лейтенанта дают, ну а кто придет другой сюда – по-своему рулить вами будет. Так что поторопись, и – домой отвалишь, сам в поезд посажу, только сначала дело. Не будет дела, другой по башке тебя бить будет! – закончил он речь, – Ты хоть знаешь, что такое настоящий оренбургский пуховый платок?
Он снял с пальца обручальное кольцо, вынул из пакета белый, чуть изжелта, легкий и пушистый платок, просунул один его конец в кольцо и лёгким движением руки продёрнул через него весь платок.
– Вот, Маэстро, это настоящий оренбургский пуховый платок, – он отсчитал из пакета пять платков, завернул их в серую почтовую бумагу, сунул Кольке за пазуху и сказал: – Это первая твоя партия – головой отвечаешь, сучара.
Колька шёл к себе в коллектор, держа под мышкой пакет, в одной руке баян, а в другой стульчик. Только одна мысль ныла в его мозгу: куда спрятать пакет? Нести в коллектор нельзя: эти черти украдут и не поморщатся, а отвечать ему. Наконец он нашёл оторванный конец утеплителя от изоляции теплотрассы рядом с коллектором. Колька сунул подальше под этот оторванный утеплитель пакет, заткнул дыру стекловатой: было незаметно и почти рядом. Колька постоял, запоминая место, и со спокойной душой пошёл в коллектор.