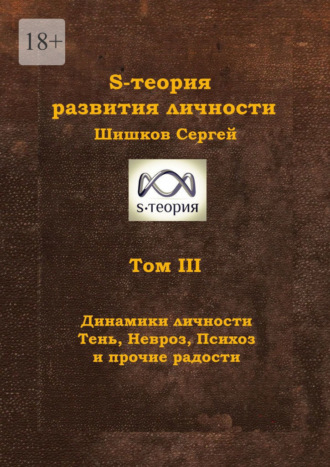
Полная версия
S-теория развития личности. Том III. Динамики личности. Тень, Невроз, Психоз и прочие радости
Фрустрационный тип
В психологическом космосе личностных архетипов фрустрационный тип представляет собой загадочный контраст по отношению к своему «собрату» – фрустрирующему типу. Если последний напоминает кипящий реактор, то фрустрационная база – глубокое озеро, воды которого хранят покой гедонистического созерцания. Но под влиянием жизненных обстоятельств это озеро может пробудиться, выбрасывая потоки неожиданной энергии. Наслаждение сменяется активностью: адепт превращается в преобразователя реальности. Он обретает черты фрустрирующего типа, но сохраняет глубину своей природы.
Базовое состояние фрустрационной личности – царство утончённого гедонизма, где высшая ценность заключается в гармонии момента. Однако в процессе активации рождается иная сущность. Сарказм, который раньше был лишь игрой ума, становится острым оружием преобразования, при этом, парадоксальным образом, не теряя своей лучистой мягкости и внимательности к деталям. Возникает феномен «воина-философа»: энергия направляется не внутрь, а наружу, на активное участие в жизни мира и влияние на окружение. Это не отказ от сути, а её возвышение – созерцатель обретает силу творца.
Для пробудившейся фрустрационной личности ключевым становится исследование социального ландшафта. Носитель такого склада интуитивно ищет точки соприкосновения с Другими, видя в этих связях не угрозу покою, а источник живительной энергии. Своеобразный процесс настоящей психологической алхимии делает возможным преобразование привычного социального взаимодействия, врожденную склонность к прокрастинации, в мощный импульс к достижению целей. Присутствие Других перестает быть помехой – оно становится топливом для внутреннего двигателя.
Наиболее радикальные изменения происходят в сфере отношений со временем. Если в исходном состоянии фрустрационный тип подобен мастеру, бесконечно отшлифовывающему инструмент перед работой, то в динамике активности рождается иной хронос. Возникает «доктрина немедленного импульса»: долгие сборы и приготовления воспринимаются как предательство момента силы. Действие становится экзистенциальным императивом – начать сейчас значит опередить саму возможность сомнения. Эта философия порождает феномен «человека-кометы»: движение без остановки, работа до изнеможения, когда пауза кажется не отдыхом, а смертным приговором для начинания. Парадокс: преодолевая прокрастинацию, фрустрированный тип рискует впасть в новую крайность – саморазрушительный фанатизм действия.
Истинная мудрость для фрустрационного типа в активной динамике – это обретение ритма между полюсами: активностью, подпитываемой глубиной, и созерцанием, обогащенным действием. Это не отказ от «ядра» личности, а восхождение к большей целостности, где гедонист учится быть стратегом, а созерцатель – воплотителем. Динамика активности – это не отрицание сути типа личности, а ее проявление, когда «озеро» обретает силу «вулкана», не теряя способности отражать звезды.
Детская динамика
Понятие «внутренний ребёнок» вошло в психологическую лексику благодаря Эрику Берну, основателю транзактного анализа. Берн предложил этот термин для обозначения одной из фундаментальных составляющих внутреннего мира личности – инстанции, формирующейся в детские годы и оказывающей глубокое влияние на поведение взрослого человека. В своей работе «Игры, в которые играют люди» Берн подробно раскрыл механизм переноса ранних детских переживаний в поведенческие паттерны взрослой жизни. Его модель постулирует существование в психике каждого человека трёх эго-состояний: Родителя, Взрослого и Ребёнка.
Внутренний ребёнок – это не абстрактная теория, а живая, необходимая часть нашего «Я». Здесь хранятся воспоминания о детских восторгах и печалях, о том, как мы воспринимали мир в нежном возрасте. В этой субличности коренятся творческие порывы, игривость, сексуальность и способность к эмоциональному отклику, хотя здесь же таятся иррациональные страхи и уязвимости. С точки зрения поведенческой модели, внутренний ребёнок диктует реакцию на стресс, формирует паттерны взаимоотношений и влияет на самооценку. Например, обильная критика может превратить внутреннего ребёнка в постоянный источник сомнений и панического ожидания оценки.
Внутренний ребёнок представляет собой эмоциональное ядро личности, в котором запечатлено пережитое в детстве. Он определяет восприятие реальности, реакцию на окружающее, создание ролевых масок и бессознательных сценариев взаимодействия с другими людьми. Проявления детской части души многообразны: от чистой радости игры и творческого горения до сложных, болезненных состояний – страха, гнева, затаённой обиды. Глубинная потребность внутреннего ребёнка – быть принятым и любимым – часто остаётся неосознанной, а неудовлетворённость детских потребностей обрекает человека на внутренние войны и конфликты вовне.
Человеческое существование нередко пронизано бессознательной драматургией психологических игр, возникающих в результате взаимодействия внутренних эго-состояний. Подобные игры могут нести как конструктивный, так и разрушительный заряд. Например, внутренний ребёнок может подталкивать личность к играм, скрытой целью которых является выпрашивание внимания и одобрения путём манипулирования окружением. Некоторые люди бессознательно примеряют на себя маски «Жертвы» или «Спасителя» – роли, отражающие глубинное состояние психики и детские переживания. Однако игры могут подпитываться и здоровыми импульсами: тот же внутренний ребёнок порой открывает человеку дверь к подлинному выражению радости, живому интересу к бытию.
Исполняя подобные роли, человек невольно разыгрывает сцены из детского репертуара, которые неизбежно влияют на его взрослое поведение и взаимоотношения. Осознание внутреннего ребёнка и его скрытого влияния на взрослую жизнь становится ключом к расшифровке собственных эмоций и поведенческих матриц. Возможно, каждому из нас стоило бы чаще прислушиваться к голосу внутреннего ребёнка, открывая доступ к забытым пластам эмоций и невысказанным потребностям, скрывающимся за внешними поступками. Такое погружение не только приближает к пониманию глубин собственного «Я», но и прокладывает путь к более аутентичным, искренним связям с другими душами.
Детская динамика в S-теории развития личности
В рамках «S-теории развития личности» детская динамика предстаёт как одно из ключевых воплощений внутреннего ребёнка. У взрослых эта динамика раскрывается через многообразие ролевых моделей поведения, переживаний и когнитивных паттернов, возникающих при характерных смещениях эго-состояний, присущих различным типам личности.
Проявления детской динамики во взрослой жизни многогранны. В каждом человеке живёт внутренний ребёнок – хранитель игривости, спонтанности и способности радоваться простым вещам. Однако эта внутренняя инстанция не всегда проявляет себя с лучшей стороны. Порой взрослые скатываются в инфантилизм, избегая ответственности, что делает их уязвимыми перед лицом стрессов и переживаний. Инфантильность является частным проявлением детской динамики и отражает психологическую незрелость. Например, компульсивный тип личности может проявляться в замкнутости и отстранённости от окружения, как аутичный тип. Такие люди нередко страдают от недостатка игривости и находят убежище в знакомом, предсказуемом мире.
Или, напротив, личности нарциссического склада демонстрируют яркую игривость и привлекают к себе внимание. На первый взгляд такое поведение похоже на детскую непосредственность. Однако глубинными причинами часто являются ненасытная жажда внимания, способная удовлетворять либидозные потребности (стремление к сексуальности и самоутверждению), что является проявлением истероидных черт.
Хотя внутренний ребёнок играет важную роль во взрослой жизни, он же активизирует ролевые состояния, более свойственные другим типам личности. Например, фрустрирующий тип личности проявляет детскую часть через постоянную жажду признания и комплиментов, которая порой граничит с нарциссическими проявлениями. Детское состояние аутичного типа, как правило, связано с защитой от внешнего мира, порождающей элементы параноидальной защиты: личность укрывается в бастионе изоляции, избегая искреннего выражения чувств и пребывая в пучине тревоги.
Ключевое осознание: погружаясь в детскую динамику и перенимая черты другой личности, человек не меняет свой базовый тип. Такой переход происходит естественным образом, как отклик на внутренние желания и потребности в мобилизации ресурсов – сексуальности или игривости. Это смещение не требует чрезмерных усилий и лишено внутреннего напряжения, поскольку коренная индивидуальность и схема активности остаются неизменными.
Взрослому человеку, осознающему проявления своего внутреннего ребёнка, жизненно необходимо найти баланс между детской непосредственностью и зрелостью. Такой баланс крайне важен для душевного здоровья. Неспособность управлять своей детской частью грозит разрывом связи с реальностью и развитием психопатологических инфантильных состояний.
Понимание этих механизмов открывает путь к большей гармонии во взаимодействии и сохранению подлинной индивидуальности на жизненном пути. Как бы то ни было, важно признать право на существование собственной детской динамики, одновременно осознавая потребности взрослого человека и стремясь к здоровым отношениям – как с внутренним миром, так и с окружающей действительностью.
В изящной механике S-теории сокрыт удивительный феномен: переход в детское эго-состояние напоминает не бегство из дома, а возвращение в сокровенную детскую комнату собственной психики. Движение происходит в пределах одного и того же типа Индивидуальности, с бережным сохранением исходного типа активности. Мы не переселяемся на чужую территорию, а лишь позволяем себе спуститься на первый этаж родного «психологического дома» – туда, где хранятся старые игрушки и спонтанные мечты. Здесь, в этой знакомой, но забытой части нас самих, мы обретаем способность играть по новым, но удивительно родственным правилам.
Схема перехода личности в Детской динамике

Как и в динамике смены активности, переход подчинен четкой топографии – но вектор иной. Погружение в детское состояние – это сдвиг на четыре позиции назад по циферблату типов личности, к истокам той же Индивидуальности. Вообразите маятник: от точки максимального взрослого напряжения он качнулся к точке детской свободы в пределах прежней амплитуды. Темпераментная почва под ногами не меняется – лишь меняется способ ходить по ней: серьезный флегматик может позволить себе компульсивную дотошность в игре, а страстный холерик – вдруг проявить шизоидную отстраненность в минуты бездумного отдыха.
Зная базовый тип личности, можно предугадать, в какие игровые одежды облачится внутренний ребенок:
– Аутичный (флегматик) в детстве примеряет маски Параноидального – мир игры становится полем для скрупулезного выстраивания границ и правил.
– Компульсивный (флегматик) регрессирует к Аутичному – контролирующий взрослый превращается в ребенка, погруженного в глубокое, почти медитативное созерцание собственного игрового микрокосма.
– Параноидальный (флегматик) раскрывается как Компульсивный – подозрительность трансформируется в страстное коллекционирование или выверенную до мелочей стратегию игры.
– Психопатичный (холерик) обнажает Шизоидное ядро – напор и манипулятивность уступают место мечтательной отрешенности, созерцанию мира сквозь призму фантазии.
– Маниакальный (холерик) проявляет Психопатичные черты – восторженная энергия обретает оттенок азартного, почти безрассудного игрового авантюризма.
– Шизоидный (холерик) оживает в Маниакальности – замкнутость взрывается внезапными вспышками игривой, почти эйфорической активности.
– Истероидный (сангвиник) перевоплощается во Фрустрирующего – демонстративность сменяется капризной, но искренней увлеченностью игровым процессом, где важен не результат, а сам акт.
– Нарциссический (сангвиник) оборачивается Истероидным – самовлюбленность смягчается потребностью в игровом признании, аплодисментах, восхищенной публике.
– Фрустрирующий (сангвиник) раскрывает Нарциссические ноты – разочарование сменяется игрой «на показ», где важно не просто играть, а блистать в игре.
– Эпилептоидный (меланхолик) ныряет во Фрустрационного – ригидность и гневливость превращаются в плюшевую игру с оттенком обидчивости, где правила могут внезапно «обидеть».
– Депрессивный (меланхолик) проявляет Эпилептоидные черты – грусть и пассивность обретают структуру скрупулезной, почти ритуальной игры с жесткими внутренними правилами.
– Фрустрационный (меланхолик) регрессирует к Депрессивному – обида и жертвенность находят выход в меланхоличном, созерцательно-пассивном игровом состоянии.
Погружение в детскую динамику не требует волшебных заклинаний. Достаточно распахнуть окна будней – и переход совершается сам собой. Отпуск – классический портал: в первые дни свободы от обязательств взрослая личность тает, обнажая детское ядро. Даже проснувшись позже обычного в выходной, когда мир не требует немедленных свершений, можно ощутить, как гравитация «взрослости» ослабевает. Любая игра – шахматная партия, настольное сражение, цифровой квест – мгновенно активирует детские паттерны. Флирт, интимные игры, кокетливые прозвища («зайка», «солнышко») – все это языки детской динамики. Именно здесь рождаются те самые «ми-ми-мишные» жесты и слова – искренние, чуть нелепые, полные непосредственного восторга от простого факта существования и связи с другим. Это не инфантильность, а игривость – естественное состояние души, освобожденной от груза перманентной ответственности.
Таким образом, детская динамика – не побег от себя, а путешествие в глубь себя. Это возможность, оставаясь в стенах родного темпераментного дома, прикоснуться к забытым комнатам спонтанности, любопытства и чистого, незамутненного условностями удовольствия от бытия. Четыре шага назад – не путь деградации, а ритуал обновления, напоминание, что под слоями социальных ролей бьется живое, играющее сердце. Умение открывать эту дверь – ключ к эмоциональной гибкости и цельности, где взрослый и ребенок внутри нас не воюют, а танцуют в такт жизни.
Аутичный тип личности
Аутичный тип представляет собой особый ландшафт на котором детская динамика укреплённый бастион, где эхо параноидального типа звучит уникально, преломляясь через хрупкое стекло «внутреннего ребёнка».
При детской фиксации у аутичного типа Ребёнок (эго-состояние Ребёнка) не столько капризен, сколько сверхбдителен. Параноидальные паттерны проявляются не как открытая враждебность, а как глубинная система защиты: мир воспринимается как лабиринт угроз, где каждый незнакомый звук, жест или взгляд оценивается как потенциальная ловушка. Внутренний Ребёнок здесь – невидимый страж, застывший у щели в крепостной стене. Он не доверяет даже собственным импульсам, ибо любое движение может нарушить хрупкое равновесие.
Либидо аутичного типа направлено не на людей или абстракции, а на структурированные вселенные объектов. Влечение направлено на системы, паттерны, механизмы – будь то шестерёнки часов, линии карт или программный код. Эти объекты безопасны: их поведение предсказуемо, связи логичны, хаос контролируем. В них сублимируется параноидальный импульс: мир слишком опасен для прямого контакта, но его можно собрать заново в микрокосме упорядоченных деталей.
Попытки направить либидо на межличностное взаимодействие вызывают тревогу, сравнимую с вторжением в святая святых. Энергия либо блокируется, либо трансформируется в ритуал: например, в коллекционирование данных о человеке вместо диалога с ним.
Игровая деятельность аутичного типа – танец с предсказуемыми партнёрами. Кубики выстраиваются в идеальные башни, персонажи в воображении движутся по заданным траекториям, виртуальные миры подчиняются неизменным алгоритмам. Спонтанность – чужая территория. Правила игры – не договорённость, а закон, нарушение которого равносильно землетрясению. Параноидальный оттенок здесь – в тотальном контроле над игровым полем. Если обычный ребёнок экспериментирует с хаосом («разрушу башню, чтобы посмотреть, как она упадёт»), то человек аутичного типа охраняет башню от ветра. Игра становится не исследованием, а священнодействием, где ошибка – угроза целостности мира.
Людям с аутичным типом личности нередко свойственны параноидальные черты в поведении, особенно проявляющиеся в социальных взаимодействиях. Подобные особенности могут выражаться в недоверии к окружению и проецировании собственных страхов на других. Например, попытка резко установить контакт с таким человеком может быть воспринята как угроза, что провоцирует избегание общения и уход в себя. Отсутствие опыта в выражении эмоций и эмпатии лишь усугубляет подобную настороженность. Взаимодействие напоминает дипломатию между осаждёнными крепостями. Прямого контакта избегают: взгляд скользит мимо, физическое присутствие другого человека требует напряжения. Речь часто точна, но лишена метафор – слова превращаются в код, где «Как дела?» означает лишь запрос данных, а не приглашение к откровению.
Шутки нередко воспринимаются аутичным типом людей слишком серьёзно, из-за чего у окружающих может сложиться ложное впечатление, что они не обладают чувством юмора. Между тем корень проблемы чаще всего кроется в несоответствии их ожиданий реальности. Ведь их юмор либо психопатично агрессивен либо чаще всего параноидально саркастичен.
Сарказм для многих аутичных людей становится обоюдоострым мечом: будучи своеобразным способом коммуникации, такое общение одновременно способно дезориентировать окружающих. Использование сарказма человеком аутичного типа может создавать видимость игривости или лёгкости (флирта), однако зачастую такая манера – следствие незнания общепринятых социальных кодов. Порой такие формы выражения служат защитным механизмом от эмоционального дискомфорта или становятся единственным инструментом для передачи сложных чувств – эмоциональный дискомфорт обретает голос через иронию.
Психопатичный тип личности
Феномен детской динамики у психопатичного типа личности предстаёт как сложное переплетение архаичных шизоидных паттернов с искажёнными проявлениями «внутреннего ребёнка». Это не просто сходство с шизоидной структурой, а её специфическая трансформация под влиянием психопатического ядра, где базовые шизоидные защиты окрашиваются властной потребностью и нарушением границ, уходящими корнями глубоко в детскость.
Либидо психопатического типа в детской динамике проявляет противоречивую природу. С одной стороны, присутствует шизоидный страх поглощения и уязвимости, подталкивающий к дистанцированию. С другой стороны, существует неутолимый инфантильный голод по абсолютной близости и немедленному удовлетворению потребностей. Энергия либидо направлена не на подлинную эмпатическую связь, а на присвоение и контроль. Происходит проекция собственных желаний на других: «Я этого хочу – значит, и ты этого хочешь». Это фундаментальное нарушение границ, которое психопатическая личность воспринимает не как агрессию, а как естественный порядок вещей – отголосок детского эгоцентризма. Импульсивность становится языком этого либидо: резкие перепады от восторженной привязанности («лучший друг», «готов отдать жизнь») до холодного отчуждения отражают незрелые попытки управлять близостью, основанные на сиюминутном ощущении «нужности» или фрустрации.
Игровая деятельность и коммуникация в этой динамике несут на себе отпечаток шизоидной отстранённости, искажённой потребностью психопатического «Я» в доминировании и подтверждении значимости. Шизоидная наблюдательность превращается в инструмент манипулятивного, зачастую грубого юмора. Такой юмор – не просто шизоидная защита от мира, но и способ привлечь внимание, проверить границы, утвердить превосходство и одновременно отгородиться. Он привлекает внимание своей дерзостью, но отталкивает холодной язвительностью, скрывающей глубинную потребность в признании.
Парадоксально и стремление быть в центре внимания. Психопатичный, обычно избегающий публичности, в шизоидной динамике может внезапно превратиться в «балагура», создающего видимость веселья. Подобное праздничное настроение – не спонтанная радость, а тщательно разыгрываемая роль, спектакль для подтверждения собственной исключительности и власти над эмоциональным полем группы. Это не настоящая игра, а театр контроля, где внутренний ребёнок требует аплодисментов за сыгранную роль, а не за подлинное «Я».
Специфика взаимодействия наиболее ярко проявляется в отношении к «близким». Шизоидное стремление к избирательной, но глубокой связи трансформируется в психопатической динамике в требование тотального, почти симбиотического слияния. Границы между «Я» и «Другим» стираются: «Нас нет, есть только МЫ, т. е. Я». Друг провозглашается «самым лучшим», единственным, а отношения приобретают характер собственничества и абсолютной преданности. Требуется безоговорочная любовь, полное растворение Другого в потребностях психопатической личности. Такая псевдоблизость – не глубина шизоидной связи, а крепость, построенная внутренним ребёнком для защиты от экзистенциального одиночества и подтверждения собственного существования через абсолютное обладание Другим. За фасадом страстной преданности («ближе тебя никого нет на свете») скрывается страх утраты контроля и базовой безопасности, свойственный незащищённому детскому состоянию. Создаваемая зависимость патологический симбиоз, в котором один становится жизненной опорой для психопатического «Я», подпитывая его искажённое чувство значимости.
Таким образом, детская динамика психопатического типа предстаёт как драма незавершённого действия. Шизоидный фундамент – наблюдательность, склонность к уединению, любознательность – не разрушается, но используется «внутренним ребёнком» как сцена для разыгрывания архаичных потребностей в абсолютной безопасности, тотальном контроле и безусловном принятии. Психопатичный ребёнок, у которого нарушена базовая способность доверять, строит отношения не на эмпатии и взаимности, а на нарушении границ, манипулятивном юморе, театрализованном внимании и требовании симбиотической преданности. Его либидозные устремления – это голод, который невозможно утолить, потому что он направлен не на Другого, а на заполнение внутренней пустоты через обладание и власть.
Истероидный тип личности
Истероидный тип личности в детском состоянии напоминает калейдоскоп, в котором яркие осколки эмоций складываются в хаотичные узоры. Эго-состояние здесь представляет собой умопомрачительный сплав: оно наследует гиперактивную импульсивность фрустрирующего (гипертимного) типа, но окрашено инфантильной непосредственностью «внутреннего ребёнка» истероидного типа. Подобная динамика создаёт мир, в котором искренность граничит с манипуляцией, а потребность в восхищении сталкивается с мгновенным разочарованием.
Либидо истероидного ребёнка проявляется через классическую сексапильность, через театрализацию существования. Девочка примеряет туфли и платья «как принцесса», мальчик копирует позы киногероев – но цель всегда одна: вызвать восторг у зрителей. Эта демонстративность позже может перерасти в навязчивую эротизацию (короткие юбки, «игра» в соблазнение), где тело становится инструментом для получения аплодисментов. Однако подобные проявления – лишь крик о признании, а не осознанная сексуальность.
В играх преобладает сценарий «главной роли». Куклы разыгрывают драмы с преувеличенными страстями, спортивные состязания превращаются в шоу с кульминацией в виде «победы героя». Юмор строится на эксцентрике: клоунских падениях, гротескных гримасах, пародиях на авторитетов – на всём, что гарантированно вызовет смех у зрителей. Подобно ослику из мультфильма «Шрек». Но стоит вниманию ослабнуть, как смех сменяется слезами. Ребёнок может часами смешить гостей, а потом истерично требовать торт, потому что «шутки закончились».
Коммуникация часто напоминает аттракцион, ребёнок страстно выпрашивает игрушку, слезами добиваясь уступок, но как только подарок оказывается у него в руках, интерес угасает, и вещь летит в угол. Слёзы, объятия или обиженное молчание используются как инструменты. «Малыш» может прижать к щеке плюшевого мишку и сделать «скорбное» лицо, чтобы выпросить денег. При этом она искренне верит в свою трагедию, при этом получение дорогого подарка (нового телефона, дизайнерской одежды) воспринимается как должное. Благодарность мимолетна – ведь «так и должно быть».
Пространство вокруг истероидного в детской динамике подчиняется закону «я – исключение». Разрешается громко кричать в музее, требовать чужую вещь себе или вставать в очередь без очереди. Правила существуют для других. Попытки «купить» дружбу подарками или шутками обречены на провал. После конфликта из-за «неправильной куклы» истероид может заявить: «Она мне вообще не нравилась!», отрицая минуты страстного желания.

