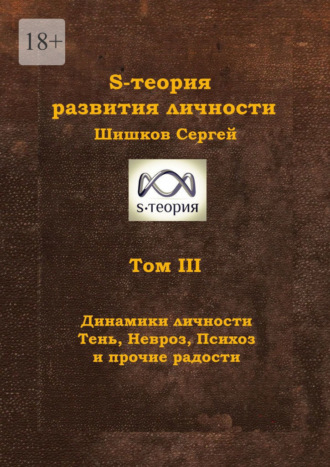
Полная версия
S-теория развития личности. Том III. Динамики личности. Тень, Невроз, Психоз и прочие радости
Родительская динамика подобна высокому зеркалу общества: она отражает надличностные ценности, стремление к совершенству и социально одобряемые формы. Детская динамика – это родник спонтанности: в ней ключом бьёт природная непосредственность, но отнюдь не антисоциальность – она тоже обращена к миру людей и часто жаждет внимания и одобрения. Родительское эго-состояние: включается, когда нужно отстоять границы, заявить о своей позиции или установить правила. Детское эго-состояние: захлестывает в моменты творчества, беззаботного отдыха или азарта в игре.
Погружаясь в родительскую динамику, мы надеваем психологический «костюм» одного типа личности, а в детской – кардинально меняем маску. Например, когда нарциссический тип активирует детскую динамику, его проявления могут напоминать истероидный тип (эмоциональность, жажда внимания). Но стоит ему переключиться на родительскую динамику, как в нём проявляются черты фрустрирующего типа (требовательность, идеализм).
Испытывая благоговение перед кем-то, мы невольно принимаем «детскую» позу, а объект нашего восхищения – словно по невидимой нити – начинает играть «родительскую» роль.
Транзактный анализ Э. Берна показывает, то эти эго-состояния глубоко связаны друг с другом. Например, чувство глубокого преклонения, благоговения перед другим человеком (объектом) создаёт психологический дисбаланс равного взаимодействия. Пиетет это не просто уважение (уважение чувство равных), а ощущение его психического или статусного превосходства, что автоматически снижает нашу субъективную значимость в контакте. В ответ на этот дисбаланс наше бессознательное запускает регрессию – возврат к более ранним, инфантильным моделям взаимодействия. Мы переключаем наше эго-состояние в детскую динамику, что проявляется как ощущение недостаточной компетентности, потребность в одобрении или руководстве, склонность идеализировать объект. Активизируются повышенная эмоциональность, проявление наивного любопытства или восторга, снижение критичности мышления, демонстрация зависимости (прямой или косвенной). В поведении появляются бессознательные попытки вызвать заботу, руководство или одобрение со стороны объекта преклонения, демонстрируя свою «нуждаемость» и «малозначительность».
Объект благоговения, сталкиваясь с такой проекцией («детской позицией»), испытывает бессознательное и обусловленное давление («Родительская» роль). В культуре и психике закреплены социальные и бессознательные паттерны схемы «ребенок-родитель». Увидев «ребенка», психика автоматически ищет дополняющую его роль парного взаимодействия. Наша «детская» проекция неосознанно побуждает объект вести себя в соответствии с эффектом проективной идентификации так, чтобы продемонстрировать ожидаемую от него роль. Объект начинает невольно «включать» родительские паттерны: снисходительность, покровительственный тон, стремление поучать, опекать, оценивать, брать на себя ответственность за взаимодействие («невидимая нить» управления).
Возникает динамическая петля взаимодействия по принципу обратной связи. Наша «детская» позиция подкрепляет и усиливает «родительское» поведение объекта. Его «родительское» поведение, в свою очередь, узаконивает и закрепляет нашу «детскую» позицию, что создает временную, но устойчивую систему ролевого распределения, характерную для диады «Ребенок-Родитель» в транзактном анализе и в S-теории развития личности.
Переключение происходит непроизвольно (бессознательно) с обеих сторон. Ни наблюдатель, ни объект, как правило, не отдают себе отчёта в этом ролевом сдвиге динамических эго-состояний. Сила «невидимой нити» – в её автоматизме, обусловленном глубинными структурами психики и усвоенными социальными сценариями.
Еще одно свидетельство того, что родительская функция является для нас не базой, а динамикой в «парадоксе родительства». Он заключается в том, что большинство людей трепетно заботятся о своих детях, но часто чувствуют раздражающую беспомощность при взаимодействии с чужими детьми. Этот психологический феномен подобен двуликому Янусу: с одной стороны – нежная, интуитивная забота о своих детях, с другой, в большинстве случаев, колючая беспомощность перед чужими. Неисчислимое количество людей легко плетут невидимые нити понимания со своими отпрысками – здесь родительство течёт как подземный источник, зачастую не требуя сознательных усилий. Мы, входя в эту динамику, не «играем роль», а существуем в ней, как рыба в воде, естественно синхронизируясь с ритмом ребёнка через общую историю и биохимию привязанности.
С чужими детьми включается механическая симуляция и контраст между базой и динамикой проявляется резко и вынуждено. Каждое действие – улыбка, запрет, попытка успокоить – требует сознательного расчета и усилия, словно вы надеваете тесный сценический костюм, того же персонажа, но сшитый по чужой выкройке. Здесь нет глубокого понимания мимических кодов ребенка. Отсутствует автоматическая нейронная настройка на его состояние и биологический резонанс (нет «окситоциновой волны»).
В противовес этому мозг активирует «родительский режим» через префронтальную кору (волевой контроль), а не через лимбическую систему (интуицию). Отсутствует внутренняя «карта реакций» – вы не знаете, что ожидать от этого ребёнка. Вы импровизируете по шаблону («как должно быть»), а не по ощущениям («как естественно»).
Секрет парадокса кроется в природе динамики: с родными вы в аутентичном состоянии субъекта родительства, с чужими – актёр (ролевая проекция). Такой разрыв и порождает когнитивную усталость – словно вы вынуждены постоянно говорить на неродном языке.
Давайте рассмотрим подробнее каждую из названных динамик эго-состояний.
Смена активности
В современной психологии личность предстаёт не застывшим портретом, а живой, пульсирующей системой, в которой образ мыслей и модели поведения постоянно видоизменяются под влиянием окружающего мира. Ключевая идея S-теории развития раскрывает внутренний ритм каждого человека: своеобразную динамику активности. Все мы переживаем смену этих состояний: периоды сосредоточенного созерцания сменяются волнами целенаправленных действий, и наоборот. Такое непрерывное движение – сама ткань нашей жизни.
В разных жизненных ситуациях созерцательные и деятельные натуры проявляют себя по-разному. Человек склонный к уединению, чья стихия – глубокие размышления и камерное общение, порой оказывается перед необходимостью выйти на авансцену действия, проявить инициативу в ситуациях, требующих открытого взаимодействия.
Однако и прирождённые деятели, чья энергия рвётся наружу, стремясь к общению и свершениям, порой вынуждены погружаться в тишину. Это происходит, когда внешние бури затихают, резкая смена обстановки требует тишины или стрессовые вихри выбивают почву из-под ног и выводят из привычной колеи. Тогда мощный поток активности замедляется, поведенческие русла временно меняют своё течение, в разливы омутов спокойствия и пассивности.
Определяя людей как активных или пассивных или говоря о преобладающем типе личности, подразумевают баланс этих фундаментальных состояний в течении жизни. Представьте весы: если стремление к действию перевешивает и составляет, скажем, 60%, а глубина созерцания – 40%, то перед нами деятельная натура с активной жизненной позицией. Обратное соотношение характеризует созерцательный тип с пассивной жизненной позицией.
Личность человека подобна живому калейдоскопу, в котором неповторимый узор постоянно меняется под влиянием обстоятельств. Удивительное богатство нашей природы раскрывается именно в этих превращениях: когда созерцательные натуры выходят на авансцену действия, а деятельные погружаются в глубины безмолвия. Подобные метаморфозы подчёркивают ценность социальной гибкости и способности к преображению, которые делают нас по-настоящему многогранными.
Представьте себе человека, чья стихия – тихое наблюдение. Такой человек подобен мудрому зрителю в полумраке театрального зала, погружённому в размышления. Но когда жизнь ставит его перед необходимостью действовать, ему приходится выходить на свет софитов. Хотя первые шаги сопровождаются неуверенностью, преодоление страха открывает в нём неведомые прежде качества: силу, решительность, дар вести за собой. В активной роли такой человек нередко поражает и окружающих, и самого себя, обнаруживая дремавшие таланты.
На другом полюсе – прирождённые лидеры, чьё присутствие подобно маяку. Эти люди несут в себе энергию и инициативность, увлекая за собой других. Однако и им случается оказаться в тихой гавани, где бурные волны внезапно стихают. Жизнь порой требует остановиться, отступить и просто побыть в тишине. Такая пауза может принести как облегчение, так и тревогу. В моменты вынужденной пассивности активные натуры открывают в себе забытое искусство прислушиваться к себе, переосмысливая свои истинные стремления.
Эти два состояния – пассивность и активность – подобны краскам на палитре личности. Мы не статичные фигуры, застрявшие в одном состоянии своего типа личности, а текучие реки, способные менять русло в ответ на обстоятельства подбрасываемые миром. Мы способны меняться, адаптироваться и развиваться, настолько многогранна и сложна наша личность.
Каждый из нас носит в себе множество ролей и граней, жизнь в обществе требует от нас умения приспосабливаться, как акробат, который ловко балансирует на канате. Пассивные типы, выходя в активную позицию, учатся проявлять свои силы, активность дарит опыт реализации скрытых возможностей, а активные, погружаясь в пассивность, открывают для себя важность внутреннего покоя и размышлений, мудрость внутренней тишины.
И все же этот переход не случаен и обладает своими четко выраженными характеристиками. У каждого типа личности своя собственная динамика смены активности и мы в ней не одинаковы. Каждый тип личности ткет свой узор бытия на полотне своей психики.

Аутичный тип
Личность аутичного склада подобна перламутровой раковине: естественная тяга к уединению и хрупкость в общении создают её защитную оболочку. Но под гнётом внешних бурь – будь то социальный прессинг или тревожный вихрь – эта скорлупа может треснуть, обнажив черты, причудливо перекликающиеся с психопатической личностью. Подобные метаморфозы особенно заметны, когда жизнь вынуждает человека погружаться в кипящий котёл социальных взаимодействий.
Представьте себе существо, для которого людской гул – это физическая боль. Вынужденная отстаивать свою идею на собрании или продвигать проект в группе, такая личность порой облачается в доспехи сниженной эмпатии. Возникающая агрессия – это не кинжал нападения, а щит солнечного символа, охраняющий хрупкий внутренний мир от вторжения. В горниле стресса рождается окаменевшая потребность в контроле – черта, находящаяся на грани аутизма и психопатии. Тихий сотрудник, чья стихия – тень библиотечных полок, вдруг проявляет волю из кованого железа, требуя беспрекословного подчинения. Со стороны это может показаться тиранией, но так рождается спасательный мандат – ритуал укрощения хаоса через абсолютное владение процессом.
Парадоксально: глубочайшая погружённость в значимую деятельность становится для такой личности вратами в активность – и тогда проявления могут быть ошибочно истолкованы как психопатические. Представьте состояние священного потока: человек, полностью сосредоточенный на задаче, теряет ощущение времени и пространства. Его уверенность в себе – это не холодный расчёт, а пламя одержимости духа. Могут игнорироваться «мелочи» вроде усталости коллег или этических тонкостей – не из бессердечия, а по причине фокусного сужения вселенной до точки цели.
Такое преображение делает невидимое зримым. На конференции молчаливый наблюдатель вдруг сбрасывает покров невидимости: вопросы становятся острыми, как клинки, идеи – дерзкими, как полёт ястреба. Для тех, кто привык к его фоновому существованию, это подобно внезапному восходу чёрного солнца – ослепительно, но мимолётно. Социальная «вспышка» – это не манипуляция, а редкий мост, возведённый к миру на своих условиях.
Истоки подобного преображения могут крыться во внутреннем прорыве. Положительная оценка или осознание своей компетентности подобны солнечному лучу, растапливающему ледяные глыбы сомнений. Человек, годами носивший ярлык неполноценного, обретает внутренний Грааль самоценности. Пробудившаяся уверенность аутичной личности, становится компасом для навигации в социальных морях.
Таким образом, под давлением среды аутичная личность может проявлять жёсткость, гиперконтроль и эмоциональную отстранённость – защитную мимикрию, которая отражает психопатические паттерны, как тёмное зеркало.
Психопатичный тип
Психопатическая структура личности способна на удивительные метаморфозы: в определённых условиях её боевая броня может трансформироваться в аутичную раковину. Подобное переключение режимов активизируется, когда психопатический индивид сталкивается с ситуациями, требующими эмоциональной дистанции и защиты. Привычная дерзость и манипулятивность отступают, уступая место глубокой замкнутости – подобно хищнику, уходящему в непроходимую чащу леса.
Что же происходит с психопатическим началом внутри этой аутичной динамики? Когда подобная личность погружается в одиночество – будь то творческое затворничество или добровольная изоляция, – активизируется принципиально иной модус существования. Психопатическое ядро не растворяется, но претерпевает трансформацию: из агрессора оно превращается в архитектора внутренней крепости. Здесь, в святая святых психики, обретается недоступная во внешнем мире неприкосновенность. Сам процесс должен оставаться скрытым от посторонних глаз – это частная территория души. Именно в подобных состояниях рождается та самая творческая искра.
Представьте себе архетипичного «сорвиголову»: грубого сержанта, вольно трактующего уставные правила. Где же здесь место созиданию? Но стоит ему запереться в мастерской или погрузиться в стихию стихосложения, как происходит чудо алхимии: хаотичная энергия обретает кристаллическую форму. В этой добровольной изоляции психопатический напор сублимируется в глубину, а поверхностность – в эмоциональную насыщенность. Вспомните Маяковского, из-под пера которого вышло «Облако в штанах». Или самый яркий пример – феномен Владимира Высоцкого. Его бунтарская натура, ломавшая социальные табу (от связей с иностранцами до выбора одурманивающих веществ), казалась чистым вызовом системе. Но настоящее чудо проявлялось в другом: песни о войне передавали окопный ужас с такой достоверностью, что ветераны отказывались верить в отсутствие у автора фронтового опыта. Горные альпинистские баллады рождались до его реального знакомства с горами, а альпинисты говорили «он наш».
Как такое возможно? В аутичном состоянии психопатическая личность обретает уникальный дар: ее защищенное «Я» превращается в чистый холст для чужого опыта. Лишенная обычных социальных фильтров, она погружается в эмоциональные миры других людей, буквально воплощая в себе чужие чувства. Это не эмпатия в классическом понимании, а скорее экзистенциальный перенос – способность стать проводником чужих трагедий. Результат такой трансформации зависит от степени социализации и зрелости личности. Социализированные индивиды направляют подобную сверхчувствительность на благое дело (искусство, науку, лидерство). Менее адаптированные используют этот дар как инструмент для точечного удовлетворения собственных потребностей.
Таким образом, аутичное состояние для психопатического типа – это не регресс, а стратегическое отступление. Это перезагрузка, в ходе которой хаотичная энергия кристаллизуется в творческую силу, а уязвимость становится проводником глубины. Ненадолго опуская занавес своего театра, личность создаёт пространство для принципиально иного модуса бытия – пространство, где разрушительное начало обретает форму созидания, принося с собой отдохновение от сброшенного напряжения и новое направление неукротимой силы.
Истероидный тип
Если обратиться к другим типам личности, можно наблюдать любопытную метаморфозу: носители ярко выраженного истероидного склада порой начинают демонстрировать черты, более характерные для эпилептоидной структуры. Сущность истероидной личности – эмоциональная подвижность и жажда быть в центре внимания – внезапно дополняется стремлением к контролю и строгому традиционному порядку, свойственным эпилептоидным. Хотя изначальное стремление привлекать к себе внимание и сохранять видимость не исчезает, в этом «эпилептоидном» состоянии реакция претерпевает резкую трансформацию: личность становится гипертрофированно ранимой. Малейшее замечание, косой взгляд – и некогда игривая поверхностность оборачивается потоком слёз, обидой, бьющей ключом. Это напоминает внезапный переход от яркого карнавала к хрупкости тончайшего фарфора.
Более того, подобные личности виртуозно осваивают инструмент, традиционно ассоциирующийся с эпилептоидной динамикой, – «выученную беспомощность». Суть феномена заключается в демонстративном согласии действовать, но таким образом, чтобы каждое движение заранее доказывало собственную несостоятельность. Разворачивается своеобразный спектакль: «Я сделаю всё, что вы прикажете, но вы лишь удивитесь моей „неспособности“ – ведь результат изначально обречён!» «Не могу!» или «Обстоятельства непреодолимы!» – как в анекдоте про лошадь, которая признаётся: «Ну не смогла я, не смогла».
Здесь речь идёт не о простом отказе от выполнения задачи, а об активном создании ситуации, вынуждающей другого вмешаться, помочь, выполнить работу вместо просителя. Это уже не просьба, а скрытое требование: «Исправь, почини, создай – поскольку собственной воли недостаточно (пусть даже приложенные усилия были минимальными)». Суть послания: «Ты обязан!»
Важнейший нюанс: изощрённый приём выученной беспомощности достигает максимальной эффективности именно в паре типов личности истероидный и эпилептоидный. Можно бесконечно изучать курсы «искусства поднятия ресниц» или осваивать другие элементы арсенала так называемого «женского оружия», но без природной истероидной основы эффект будет бледным, а игра – ненастоящей.
Таким образом, истероидная структура, усиленная эпилептоидными чертами, сохраняет жажду внимания, но приобретает гипертрофированную ранимость. Такие личности мастерски отступают в тень при малейшем намеке на обиду. Они проявляют неожиданную строгость, настаивая на контроле над поведением других. Требования направлены на соответствие своим эстетическим идеалам и на удовлетворение потребностей и нужд, а также на реализацию внутреннюю потребность в любви, которую они могут контролировать.
Эпилептоидный тип
Обратное проявление метаморфозы обнаруживает ту же динамику: носители эпилептоидной структуры личности способны неожиданно проявлять черты, более свойственные истероидному складу. Подобная смена «личины» часто активизируется под давлением масштабных социальных потрясений или острой необходимости адаптации. В подобные моменты у привычно сдержанного эпилептоида пробуждаются подчеркнуто живые, порой бурные эмоции, характерные для истероидной природы. Хотя эпилептоиды избегают прямых требований внимания, им мастерски удаётся привлекать его опосредованно – через третьих лиц или предметное окружение. Подобно оперной диве, скромно утверждающей: «Овации принадлежат композитору, я лишь инструмент». Порой механизмы усложняются: вообразите посетителя концерта, постоянно роняющего программку, шуршащего обёрткой, извиняющегося шёпотом – пока незаметно весь зал не оказывается вовлечённым в наблюдение именно за этим человеком. Демонстративность отсутствует, остаётся лишь цепь «случайных» помех, формирующих фоновый шум внимания.
Данный парадокс представляет прорыв истероидной динамики сквозь эпилептоидную сдержанность. Жажда быть замеченным внезапно перевешивает даже мощное, обычно тщательно скрываемое чувство стыда. Обычно погребённый в глубинах, стыд обнажается исключительно в этой особой «истерической» фазе.
Та же динамика материализуется в состоянии «праздничного транса». Эпилептоид способен с неистовой энергией декорировать пространство к Новому году, вкладывая душу в каждую деталь украшения.
Даже если благодарность окружающих окажется тише лопнувшего новогоднего шарика, эпилептоидную душу согреет незримое пламя внутреннего удовлетворения. Подобно алхимику, превращающему свинец в золото, он претворяет скрупулёзный труд в сакральный акт созидания. Каждая ровно повешенная гирлянда, симметрично расставленная фигурка – это материализованная частица его контролируемого совершенства. Вспомните как выглядел кабинет Долорес Амбридж из фильма «Гарри Поттер и орден Феникса», когда она стала директором Хогвартса. Награда здесь – не только во внешнем признании, но в самом акте упорядочивания хаоса. Красота, сотворённая эпилептоидным человеком, становится зеркалом его внутренней структурированности – зримым воплощением победы над несовершенством мира.
В этом ритуале кроется двойное дно: параллельно с созиданием возникает неистребимая тень жертвенности. Эпилептоид словно надевает маску мученика, несущего свет праздника в равнодушное пространство. Каждое недополученное «спасибо» – это капля в сосуд будущего возмездия. Ощущение недооцененности здесь – не случайность, а запланированный психологический урожай. Как купец, вкладывающий золото под проценты, он копит невысказанную обиду, зная: придет час, когда этот капитал трансформируется в моральное право требовать и наказывать.
«Восстановление справедливости» – не просто месть, а священнодействие психологической компенсации. Оно позволяет легитимизировать скрытый гнев через образ защитника попранного порядка («я терпел, теперь вы потерпите»). Утолить глубинный голод признания через демонстрацию силы («вы не оценили мой труд – теперь я решаю вашу судьбу»). Восстановить попранную иерархию, поставив обидчиков в позицию должников («мой вклад теперь будет оплачен вашим подчинением»).
Финал же всегда предсказуем: когда лопнет последний шарик, на месте праздничного восторга останется лишь хрустальная сфера обиды – идеально круглая и готовая катиться в сторону «виновных».
Однако существует и более открытое деструктивное проявление истероидности у эпилептоидов – сутяжничество. Подобное не является громким истероидным скандалом, но представляет кристаллизованное недовольство: ведение войн из-за мелочей, бесконечные жалобы во все инстанции. Суть феномена – в перманентном перекладывании ответственности, реальные обидчики заменяются видимыми «нарушителями порядка», личная беспомощность – языком параграфов и традиций. Как архивариус зла, он кодифицирует обиду в пункты обвинения. Суть не в решении проблемы, а в вечном процессе её «узаконенного» переживания и поиске «сильного покровителя», способного наказать обидчиков вместо самого истца. Тех, кто согласен помочь, эпилептоид-сутяга станет искусно «умасливать», стремясь превратить в орудие мести. Отказывающихся же от «помощи» запишут во враги. Истероидная жажда внимания проступает в патологическом стремлении стать центром вселенной, где судьи – зрители, а иск – спектакль. Проигрыш дела часто ценнее победы, ведь он подтверждает миф о мировом зле, против которого герой-сутяга ведёт вечную борьбу.
Фома Фомич Опискин из повести Ф. М. Достоевского «Село Степанчиково и его обитатели» – яркий пример такой эпилептоидной личности в истероидной динамике «мелочного тирана». При этом он глубоко несчастен и ущербен, его требования «соблюдения правил» до абсурда, манипуляции через псевдо-смирение («я ничтожный червь, но закон священен!») и превращение домашних конфликтов в квази-юридические процессы.
Трагедия сутяги в том, что его борьба – ритуал без искупления. Каждая «победа» лишь усиливает голод новой битвы, ибо подлинная цель – не исправление мира, а вечное подтверждение собственной значимости через конфликт. Как Сизиф в пиджаке, он катит камень жалобы в гору бюрократии, зная, что тот скатится – чтобы можно было начать снова.
Компульсивный тип
Личности компульсивного склада, отмеченные навязчивым стремлением к порядку и страхом ошибки, способны проявлять уверенность в себе и своих решениях, присущую маниакальному типу личности. Подобная трансформация обнаруживается во всплесках повышенной активности и жизненной силы, когда носителю компульсивного паттерна требуется действовать с непривычной свободой и начальственной решимостью.
Страх перед потенциальной ошибкой и глубинное недоверие к собственным умозаключениям составляют суть компульсивной природы. Несмотря на склонность к перманентному анализу и рефлексии, подобные личности неизменно сомневаются в истинности собственных выводов. Потому для них становится экзистенциально важным обретение внешнего подтверждения своих суждений. Маниакальная динамика служит здесь компенсаторным механизмом: если положение предписано – значит, непреложно. Если надлежит рассмотреть предложения за два часа – задача будет исполнена с фанатичной точностью. Причём исполнена с настойчивостью, подкреплённой железной логикой доказательств.

