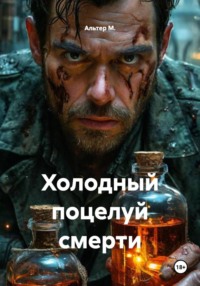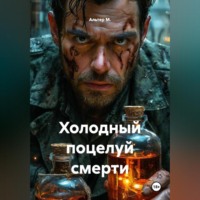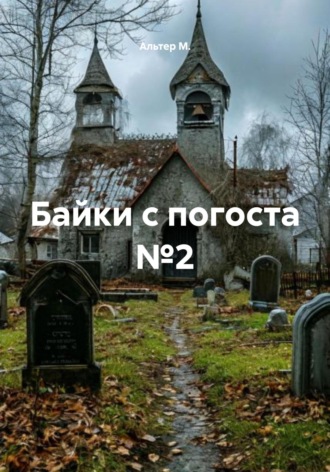
Полная версия

Альтер М.
Байки с погоста №2
Рассказ первый: Последний негатив
Тишина в доме была густой, тягучей, словно забродивший мед. Не та благодатная тишина, что сулит покой, а тревожная, звенящая подспудным ожиданием. Антон Свиридов стоял у большого панорамного окна, вглядываясь в сползающие за горизонт сумерки. Серая пелена дождя окутала забытое богом село Выдрино, превращая его в подобие старинной, выцветшей фотографии. Именно это сравнение, профессиональное до автоматизма, заставило его вздрогнуть. Он был фотографом. Но уже не тем, что ловит мгновения жизни, а тем, что аккуратно, с каменным лицом, документирует ее финал.
Этот старый дом на отшибе, куда он переехал три месяца назад после краха своей столичной жизни, должен был стать убежищем. Дешево, тихо, далеко от навязчивых взглядов и шепота за спиной. «Свиридов-могильщик», – так он мысленно называл себя сам. Он фотографировал умерших. Посмертные снимки, некогда популярные в викторианскую эпоху, в этом глухом уголке были не то чтобы традицией, но стойкой, мрачной необходимостью для старожилов. Они считали, что последняя фотография помогает душе упокоиться, оставляет память в ее наилучшем, умиротворенном облике.
Антон ненавидел эту работу. Она пахла формалином, старой пылью и тленом. Но она приносила деньги, которых ему отчаянно не хватало, и давала иллюзию изоляции. Он превратил просторную гостиную в студию. На смену ярким софтам и рефлекторам пришел одинокий, рассеянный свет зонта на огромной стойке, создающий мягкие, сглаживающие тени. Рядом, всегда наготове, стоял узкий стол, больше похожий на катафалк, покрытый темным бархатом.
Сегодня вечером у него был «клиент». Старая Матрена из дома на краю погоста принесла своего внука. Парнишка, лет двадцати, погиб в лесу – сорвался с обрыва. Говорили, что ходил за грибами. Антон отложил визит на последний возможный срок, сославшись на проблемы с аппаратурой. Правда заключалась в том, что он не мог заставить себя взглянуть на еще одно искаженное смертью лицо. Особенно молодое.
Дождь усиливался, стуча по крыше и стеклам настойчиво, как будто кто-то требовал впустить его. Антон вздохнул, потянулся к бутылке с виски и налил себе две пальцы. Жидкость обожгла горло, на мгновение прогнав ледяной холод, въевшийся в кости. Он потушил свет в комнате, остался стоять в темноте, наблюдая, как по стеклу ползут слепые, водянистые тени. Внезапно в окне, вместо его собственного отражения, ему почудилось другое лицо – бледное, с темными впадинами вместо глаз. Он резко обернулся. Комната была пуста. Игра света, паранойя, усталость, – убедил он себя, делая еще один глоток.
Ровно в восемь раздался мерный, тяжелый стук в дверь. Не звонок, который он так и не починил, а именно стук – дерева о дерево, глухой и неспешный. Антон вздрогнул, едва не уронив бокал. Он глубоко вдохнул, поправил воротник рубашки и пошел открывать.
На пороге стояла Матрена. Высокая, худая, с лицом, испещренным морщинами, как старыми трещинами на фреске. Она была закутана в черный платок, с которого на пол капала вода. За ее спиной, на простых деревянных носилках, покрытых грубым холстом, лежало длинное, неподвижное тело.
– Впусти, фотограф, – ее голос был скрипучим, как ветхая дверь. – Пора.
– Проходите, бабушка Матрена, – Антон отступил, пропуская ее. Он помог внести носилки в центр комнаты, туда, где была подготовлена площадка. Тело было на удивление легким, почти невесомым.
Матрена молча откинула холст. Антон заставил себя посмотреть. Парень был бледен, но смерть, что удивительно, почти не исказила его черты. Лицо спокойное, даже умиротворенное, с легкой улыбкой на губах. Если бы не абсолютная неподвижность и восковая белизна кожи, можно было бы подумать, что он спит. Его звали Степан, как позже пояснила Матрена.
– Он такой… спокойный, – не удержался Антон.
– Господь прибрал без мучений, – отозвалась старуха, усаживаясь на стул в углу. – Снимай. Сделай красиво. Он любил фотографироваться.
Антон кивнул, почувствовав неожиданное облегчение. Возможно, сегодня все пройдет легко. Он включил софтбокс, и мягкий свет озарил лицо Степана. Антон навел старую, но надежную зеркальную камеру на штативе. Он принципиально не пользовался цифровой техникой для таких съемок. Только пленка, только аналог. В этом был какой-то болезненный, мазохистский ритуал, придававший процессу видимость смысла.
Щелчок затвора прозвучал оглушительно громко в тишине комнаты. Вспышка на мгновение выхватила из мрака неподвижную фигуру и сидящую в углу старуху. Антон сделал несколько кадров с разных ракурсов, стараясь поймать то самое «спокойствие», о котором говорила Матрена. Работа шла на удивление споро, почти механически.
– Готово, – объявил он, накрывая тело холстом. – Пленку проявлю завтра. К утру послезавтра фотографии будут.
Матрена молча встала, кивнула и, не говоря ни слова, вышла за дверь, оставив носилки с телом внука прямо посреди комнаты. Это была часть их молчаливого договора. Антон не только фотографировал, но и до утра брал на себя роль хранителя. Старики верили, что так душа усопшего привыкает к миру иному, глядя на свое отражение, которое потом останется у живых.
Когда дверь закрылась, Антон почувствовал, как тяжесть снова навалилась на него. Он налил себе еще виски и уселся в кресло напротив задрапированного тела. Свеча, которую он зажег по неписаной традиции, отбрасывала на стены прыгающие тени. Он старался не смотреть на длинный, неподвижный силуэт под холстом.
Часы пробили полночь. Дождь наконец стих, и в наступившей тишине стало слышно собственное дыхание Антона. Именно тогда он заметил нечто странное. Край холста, прикрывавший лицо Степана, шевельнулся. Словно от сквозняка. Но окна были закрыты наглухо.
Антон замер, впиваясь взглядом в темную ткань. Ему почудилось. Должно было почудиться. Он сделал глоток виски, пытаясь унять дрожь в руках. Прошло несколько минут. Ничего. Он уже начал успокаиваться, как вдруг увидел это снова. Холст явно сдвинулся на пару сантиметров, обнажив прядь темных волос.
– Сквозняк, – пробормотал он себе под нос, но встал и подошел к носилкам. Его сердце бешено колотилось. Он потянулся, чтобы поправить покрывало, и его пальцы коснулись чего-то ледяного. Это была рука Степана. Она лежала поверх холста, там, где должна была быть скрыта под тканью. Холодная, восковая, но живая в своем мертвом спокойствии.
Антон отшатнулся, с трудом сдерживая крик. Он зажмурился, потом снова открыл глаза. Рука по-прежнему лежала на холсте, но теперь он увидел, что это он сам, поправляя покрывало, мог случайно сдвинуть его и обнажить кисть. Да, конечно. Он просто не заметил раньше. Переутомление, нервы, виски.
Он глубоко вдохнул, взял себя в руки и аккуратно, стараясь не прикасаться к коже, убрал руку под холст и поправил покрывало. Тело лежало неподвижно. Все было как надо. Антон вернулся в кресло, но сон как рукой сняло. Он сидел и смотрел на носилки, не в силах отвести взгляд.
Время тянулось мучительно медленно. Свеча догорала, ее огонек становился все меньше и слабее. И в этом полумраке Антону снова начало что-то мерещиться. Ему показалось, что контур под холстом изменился. Что грудь едва заметно приподнимается и опускается. Что сквозь ткань проступает очертание той самой улыбки – и теперь она казалась ему не умиротворенной, а знающей что-то, чего не знает он.
Он встал, чтобы зажечь люстру, развеять этот кошмар электрическим светом. Но в тот момент, когда его пальцы коснулись выключателя, в комнате раздался тихий, но отчетливый щелчок. Он доносился оттуда, от носилок.
Антон замер. Щелчок повторился. Он был похож на звук затвора фотоаппарата.
Медленно, против своей воли, Антон повернул голову. В тусклом свете догорающей свечи он увидел, что холст снова сдвинулся. Теперь было видно не только волосы, но и часть лба, бровь. И самое ужасное – глаз. Он был закрыт. Но Антону показалось, что веко чуть дрогнуло.
Он больше не мог этого выносить. Он резко щелкнул выключателем. Яркий свет люстры залил комнату, ослепив его. Он моргнул, всматриваясь в носилки. Все было на месте. Холст лежал ровно, тело под ним – неподвижно. Никакого глаза, никакой улыбки. Иллюзия. Галлюцинация. Стопроцентно.
С наслаждением ругаясь про себя, Антон схватил бутылку и выпил прямо из горлышка. Хватит. Пора спать. Он бросил последний взгляд на «гостя» и побрел в свою спальню, плотно закрыв за собой дверь. Он не был суеверным, но впервые за три месяца задвинул на дверной замок засов.
Сон не шел. Он ворочался, прислушиваясь к малейшему звуку из гостиной. Было тихо. Абсолютно тихо. Эта тишина в конце концов усыпила его, как усыпляет монотонный шум прибоя.
Ему приснился странный сон. Он снова стоял за камерой в своей студии. Но на месте носилок был роскошный старинный диван, на котором полулежал Степан. Он был жив, улыбался, его глаза сияли. Он что-то говорил Антону, но слов разобрать было невозможно. Затем Степан поднял руку и показал пальцем не на Антона, а куда-то за его спину. Антон обернулся и увидел себя самого, стоящего у стены. Себя – бледного, с пустыми глазами, с петлей на шее. А на шее у живого Степана появился темный, багровый рубец.
Антон проснулся от собственного крика. В комнате был день. Слабый осенний свет пробивался сквозь щели ставней. Он лежал, слушая бешеный стук собственного сердца, пытаясь отогнать остатки кошмара. Из гостиной доносился звук. Монотонный, ритмичный. Тик-так, тик-так.
Сердце Антона упало. В гостиной не было часов.
Он вскочил с кровати, накинул халат и, стараясь двигаться бесшумно, приоткрыл дверь. Звук стал громче. Это были не часы. Это был тихий, металлический скрежет. Как будто кто-то точил нож.
Антон, затаив дыхание, заглянул в щель. Носилки стояли на прежнем месте. Холст был аккуратно сложен и лежал рядом на стуле. Носилки были пусты.
Пусты.
По спине Антона пробежал ледяной мурашек. Он распахнул дверь. Гостиная была пуста. Никого. Только скребущий звук доносился из-за двери в его же собственную темную комнату – крохотное помещение без окон, где он проявлял пленки.
Он подошел к двери и прислушался. Скребущий звук сменился тихим, мелодичным насвистыванием. Кто-то за дверью насвистывал старинный, незнакомый мотив. Мелодия была простой, но от нее стыла кровь.
Антон с силой распахнул дверь. Внутри, в полной темноте, при свете единственной красной лампы, перед столом с бачками для проявки стоял Степан. Он был бледен, как и вчера, но теперь двигался легко и уверенно. В его руках была длинная полоска фотопленки. Он медленно протягивал ее через пальцы, внимательно разглядывая на свет красной лампы. На его лице застыла та самая спокойная улыбка.
– Что… Что ты делаешь? – прохрипел Антон, прислонившись к косяку. Ноги его подкашивались.
Степан медленно повернул к нему голову. Его глаза были живыми, но абсолютно черными, без единого проблеска.
– Смотрю, фотограф, – голос Степана был шелестом опавших листьев. – Смотрю на жизнь. На свою жизнь. Ты ведь запечатлел ее для меня. Последний кадр.
Он протянул пленку Антону. Тот, не в силах ослушаться, взял ее. На пленке были не сегодняшние снимки. Кадры показывали совсем другое. Лес. Темный, мрачный ельник. Молодой парень, сам Степан, бежал по тропинке, оглядываясь через плечо с ужасом на лице. Следующий кадр – он спотыкается, падает. Еще кадр – чьи-то руки сжимают его горло. Крупный план – искаженное страданием лицо, выпученные глаза. Последний кадр – тело, беспомощно свесившееся с обрыва, с неестественно вывернутой шеей.
Это была не случайная смерть. Это было убийство.
– Они думали, что никто не увидит, – прошелестел Степан. Его улыбка стала шире, обнажив неестественно белые зубы. – Но ты увидел. Ты всегда видишь правду, не так ли, фотограф? Твоя камера не врет.
Антон с ужасом смотрел то на пленку, то на мертвеца. Он понимал, что это не галлюцинация. Это что-то гораздо более страшное.
– Я… Я ничего не знал, – выдавил он.
– Но теперь знаешь, – сказал Степан и сделал шаг вперед. От него пахло сырой землей и хвоей. – Ты дал мне форму. Ты дал мне глаза. Теперь ты поможешь мне показать им правду.
– Кому? – прошептал Антон.
– Тем, кто это сделал. Они придут сюда. Скоро. Они почувствовали, что что-то не так. Им стало страшно. – Степан снова улыбнулся. – А ты знаешь, что бывает, когда преступникам становится страшно? Они возвращаются на место преступления.
В этот момент снаружи послышался скрип тормозов. Во дворе остановилась машина. Хлопнули двери. Раздались голоса – настойчивые, мужские.
Антон метнулся к окну. Во двор вышли двое крепких мужчин в телогрейках. Один из них, постарше, с жестким, обветренным лицом, был старостой села, Федором. Другой, помоложе, – его сын. Они о чем-то спорили, поглядывая на дом Антона.
– Видишь? – шепот Степана прозвучал прямо у его уха, хотя сам он стоял на другом конце комнаты. – Они пришли забрать тело. Похоронить по-тихому. Скрыть все следы.
– Что мне делать? – в отчаянии спросил Антон.
– Снимай, фотограф, – просипел Степан, и его черные глаза вспыхнули красным огоньком, словно отблеск лампы. – Снимай правду. Как всегда.
Раздался громкий стук в дверь.
– Эй, фотограф! Открывай! – это был грубый голос Федора.
Антон, как в тумане, подошел к двери и открыл ее. На пороге стояли Федор с сыном. Их лица были напряжены.
– Забрать Степана пришли, – без предисловий сказал Федор, пытаясь заглянуть за спину Антона. – Где он?
– Он… он в темной комнате, – выдавил Антон.
Федор нахмурился.
– В какой еще комнате? Что ты несешь? Мы за телом пришли.
Он грубо оттолкнул Антона и шагнул в дом. Его сын последовал за ним. Они прошли в гостиную и остановились, уставившись на пустые носилки.
– Где тело? – рыкнул Федор, поворачиваясь к Антону. Его лицо исказила злоба и… страх. Чистейший, животный страх.
В этот момент дверь в темную комнату медленно, со скрипом отворилась сама собой. На пороге стоял Степан. Но это был уже не тот спокойный юноша с улыбкой на устах. Его лицо было искажено предсмертной гримасой, шея неестественно вывернута, а из открытого рта доносился хрип, полный ненависти и боли. В руках он сжимал ту самую пленку, как петлю.
– Здравствуйте, дядя Федя, – прохрипел он голосом, в котором смешались скрежет камней и свист ветра. – И ты, Витя. Пришли проводить меня?
Федор и его сын остолбенели. Лица их побелели, как мел. Они отшатнулись, упираясь в стену.
– Не может быть… – простонал старший. – Ты… ты же мертвый!
– Спасибо, тебе, – шепот Степана был ледяным ветром, вымораживающим душу. Он сделал шаг вперед.
В этот момент Антон, движимый слепым инстинктом, поднял камеру, которую по привычке оставил на столе. Он не глядя навел ее на сцену и нажал на спуск. Ослепительная вспышка озарила комнату.
Когда пятна света перед глазами рассеялись, Антон увидел, что Федор и его сын лежат на полу без сознания. А Степан исчез. На полу рядом с носилками лежала только свернутая в кольцо фотопленка.
…
На следующий день в село приехала полиция. Федора и его сына нашли в доме фотографа в состоянии шока. Они сами во всем сознались – в ссоре из-за денег за найденный Степаном клад монет, в удушении, в инсценировке несчастного случая. Улик против них, казалось бы, не было. Но они бормотали что-то о призраке, о мертвеце, вставшем из гроба. Их показания сочли бредом, но признание было записано на бумаге.
Антон Свиридов больше никогда не фотографировал мертвых. В тот день, когда Федора и его сына увозили, он пошел в свою темную комнату, чтобы уничтожить злополучную пленку. Но она исчезла. На ее месте лежал один-единственный, идеально проявленный фотографический отпечаток.
На снимке была изображена его собственная гостиная. Пустые носилки. Двое мужчин, застывших в ужасе. И он сам, с камерой в руках, с лицом, искаженным страхом. А на заднем плане, в темном проеме двери, стояла едва заметная, размытая фигура. Фигура с знакомой улыбкой. Степан смотрел прямо в объектив, и его поднятая рука была не то бы жестом прощания, не то приглашением.
Антон так и не смог избавиться от этого снимка. Он прятал его, сжигал, рвал – но на следующее утро отпечаток всегда лежал на его столе, чистый и нетронутый. Он понял, что это не просто фотография. Это был негатив его собственной души, проявленный темной комнатой погоста. И Степан, его последний негатив, навсегда остался с ним, тихим напоминанием о том, что некоторые картины смотрят на нас в ответ. И улыбаются.
Рассказ второй: Кукла из гречишной соломы
Тишина в доме Прасковьи была особенной. Она не была пустой или безжизненной; она была густой, насыщенной, словно забродивший отвар из сухофруктов. В этой тишине хранились запахи сушеных трав, воска и старого дерева, а также отголоски семидесяти лет жизни, прожитой в этих стенах. Прасковья сидела у печки, длинными, костлявыми пальцами перебирая гречишную солому. Из этих золотистых, полых стеблей она плела обереги, фигурки животных и, ее коронное изделие, куклы.
Куколки Прасковьи были известны далеко за пределами Выдрина. Безликие, как и полагается настоящим оберегам, они несли в себе не столько эстетику, сколько функцию. Одни охраняли дом от дурного глаза, другие приманивали достаток, третьи, подвешенные над колыбелью, оберегали младенцев от ночных плачей и болезней. Но были среди них и особые. Те, что делались не по просьбе, а по зову крови. Те, что знали больше, чем следовало.
Эту куклу Прасковья делала для своей внучки, Катерины. Та должна была приехать из города на выходные, и бабушка, чувствуя холодок тревоги на спине, решила сплести для нее самый сильный оберег. Не просто от сглаза, а от тоски беспричинной, от ночных кошмаров, от той невидимой грязи, что липнет к человеку в каменных джунглях.
Работа спорилась. Солома поскрипывала в руках, подчиняясь давно отточенным движениям. Кукла рождалась без глаз, без рта, лишь с намеком на голову, укутанную в лоскуток ситца с голубыми васильками. Прасковья вплетала в нее стебельки полыни, засушенные соцветия чертополоха, шепча старинные заговоры, смысл которых стерся даже из ее собственной памяти, оставив лишь мелодику и ритм, успокаивающий душу.
Но сегодня что-то было не так. Солома казалась слишком ломкой, сухой по-осеннему, мертвой. Игла то и дело соскальзывала, колола пальцы, оставляя на соломе крохотные капельки крови. Прасковья откладывала работу, смотрела в запотевшее окно, за которым медленно сползали в ноябрьскую грязь сумерки. Ей чудилось, что по стеклу скребется не ветка старой яблони, а чья-то тонкая, костлявая рука. Старуха отгоняла от себя дурные мысли. Старость. Всего лишь старость и усталость.
Когда кукла была почти готова, раздался стук в дверь. Негромкий, но настойчивый. Прасковья вздрогнула. В такую погоду гостей не ждали. Она подошла к двери, не спрашивая «Кто там?». В Выдрине двери на ночь не запирали, но у Прасковьи было свое правило – после заката она впускала в дом только своих.
На пороге стояла незнакомая женщина. Молодая, лет тридцати, с очень бледным, уставшим лицом и большими, темными глазами. Она была одета слишком легко для промозглого вечера – легкое пальто, платок на голове.
– Простите за беспокойство, – голос у женщины был тихим, певучим. – Я к вам по делу. По поводу куколки.
Прасковья нахмурилась. Она никого не ждала.
– Кто вы будете? Не здешняя.
– Из-за реки, с Заречья, – женщина улыбнулась, и ее улыбка показалась Прасковье неестественной, натянутой. – Мне сказали, что вы лучшая мастерица. Мне нужен оберег. Для дочки. Она… плохо спит по ночам.
Что-то в этой женщине настораживало Прасковью. Была в ней какая-то нездоровая теплота, исходившая словно из печки, в которой уже давно погасли угли. Но отказывать в помощи бабушка не привыкла.
– Проходи, – она отступила, пропуская незнакомку в дом.
Женщина вошла, огляделась быстрым, цепким взглядом. Ее глаза надолго задержались на почти готовой кукле для Катерины, лежавшей на столе.
– Какая красота, – прошептала она. – Сильная?
– Для кого как, – уклончиво ответила Прасковья. – Какую куклу тебе надо?
– Простую. Чтобы дитя не болело. Чтобы сны хорошие снились.
Прасковья кивнула, достала из короба пучок свежей соломы. Она принялась работать быстро, почти не глядя на руки. Чувство тревоги не отпускало, а лишь нарастало. Незнакомка сидела молча, не сводя глаз с бабушкиных пальцев. В доме стало душно, хотя огонь в печи почти угас.
– У вас тут очень тихо, – вдруг сказала женщина. – Уютно. Пахнет… детством.
Прасковья ничего не ответила. Она торопилась закончить и проводить гостью.
Новая кукла получилась на удивление быстро. Без изысков, простая стеблевая фигурка, перевязанная красной нитью. Прасковья протянула ее женщине.
– Бери. Держи подальше от чужих глаз. И никогда не оставляй одну в комнате с спящим ребенком.
Женщина взяла куклу, и их пальцы на мгновение соприкоснулись. Кожа незнакомки была холодной, как камень.
– Спасибо вам, – она улыбнулась снова, и на этот раз ее улыбка осветила лицо каким-то внутренним, недобрым светом. – Я заплачу.
– Не надо, – поспешно сказала Прасковья. – Бери даром. С Богом.
Женщина кивнула, повернулась и вышла за дверь, бесшумно растворившись в сгущающихся сумерках. Прасковья подошла к окну, пытаясь разглядеть, куда та пошла. Но во дворе и за калиткой было пусто. Словно ее и не было.
Старуха тяжело вздохнула, заперла дверь на щеколду, что делала крайне редко, и вернулась к столу. Ее взгляд упал на куклу для Катерины. И сердце ее екнуло. Та кукла, что она только что сделала для незнакомки, была простой, почти грубой. А эта, для внучки, была ее лучшей работой – изящной, плотной, с тщательно подобранными лоскутами. Но сейчас что-то в ней изменилось. Поза куклы казалась неестественной. Руки из соломы, сложенные крестом на груди, теперь были раскинуты в стороны. А голова, прежде прямая, была слегка наклонена, словно кукла кого-то слушала.
«Показалось, – строго сказала себе Прасковья. – Старые глаза уже не те. Нервы».
Она аккуратно завернула оберег в чистую льняную тряпицу и убрала в коробку, чтобы отдать Катерине завтра. Но неприятный осадок остался.
Ночью Прасковье не спалось. Дом был полон звуков. Скрипели половицы, постукивала заслонка в печи, и ей все чудились легкие, шаркающие шаги за дверью. Однажды ей даже показалось, что кто-то тихо плачет. Детским, жалобным плачем. Она встала, зажгла керосиновую лампу и обошла все комнаты. Было пусто и тихо.
Утром приехала Катерина. Молодая, живая, пахнущая городом и дорогой, она ворвалась в дом, как порыв свежего ветра, разгоняя мрак и тревоги.
– Бабуль, привет! – Катя расцеловала Прасковью. – Как ты тут?
– Ничего, живем потихоньку, – улыбнулась старуха, глядя на внучку и забывая о ночных страхах.
Она накормила Катю обедом, расспросила о работе, о жизни в городе. Потом, за чаем, Прасковья достала заветную коробку.
– Вот, внучка, сделала тебе оберег. Бери, пусть охраняет тебя от всякой нечисти.
Катя взяла куклу, повертела в руках. На ее лице мелькнула легкая усмешка. Она была человеком современным, прагматичным, и ко всем этим «деревенским суевериям» относилась с снисходительной нежностью.
– Спасибо, бабуля! Очень красивая. Поставлю на полку, для антуража.
– Не на полку, – строго сказала Прасковья. – Держи ее у изголовья кровати. Или в сумочке носи. И никогда… слышишь, никогда не играй с ней.
– Играть? – Катя рассмеялась. – Бабуль, я уже не ребенок.
– Это не игрушка, – настаивала старуха. – Она… живая. В ней сила. Силу нужно уважать.
– Хорошо, хорошо, – Катя пообещала, поцеловала бабушку в щеку и убрала куклу в сумку.
Проводив внучку вечером того же дня, Прасковья долго стояла на крыльце, глядя вслед уходящему автобусу. На душе у нее было тревожно. Она молилась, чтобы ее опасения оказались напрасными.
Первые дни в городе Катя и не вспоминала о подарке. Кукла так и лежала в сумке, завернутая в тряпицу. Но вскоре начались странности.
Сначала это были сны. Яркие, насыщенные, до жути реалистичные. Она бродила по бескрайнему полю с гречишными цветами, белыми и пушистыми, как снег. И кто-то звал ее. Тонкий, детский голосок, доносящийся откуда-то из-за спины. Она оборачивалась, но никого не было. А голос звучал все ближе и настойчивее: «Поиграй со мной…»
Просыпалась Катя с тяжелой головой и чувством, что она не отдыхала, а провела всю ночь на ногах. Она списала все на стресс и усталость от работы.
Затем стали пропадать мелочи. Любимая сережка, затем ключ от квартиры. Они находились в самых неожиданных местах. Сережка – в холодильнике, рядом с маслом. Ключ – в кармане старого пальто, которое Катя не носила уже год. Она думала, что стала рассеянной.