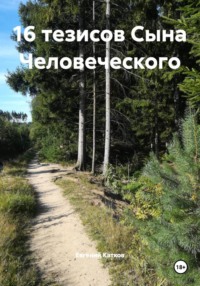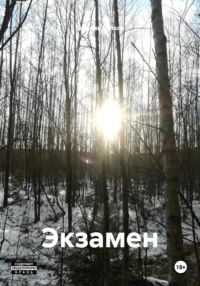Полная версия
СОБЕСЕДНИКИ
У Гомера, конечно, нет "зоны", острога, каторги в привычном для нас виде, но есть сформировавшиеся полевые авторитетные командиры, выясняющие отношения преимущественно в боестолкновении, выражающиеся характерной открытой "наезжающей" речью; есть и Олимпийская могущественная семья с божественными возможностями и несомненным криминальным прошлым. Есть также множество рабов, обезличенных и сломленных людей, покорно выполняющих чужую волю. События Троянской войны, участь городов и народов определяется, в сущности, очень простыми решениями, взаимоотношениями, пристрастиями, прихотью узкого круга лиц. Сам выбор Париса характерен. У человека нет никакой возможности уклониться от этого заведомо неблагополучного выбора. Приходится выбирать и испытывать судьбу в неизбежной борьбе. Так и в "зоне" жестокая борьба должна вестись за элементарные человеческие блага: пищу, одежду, ночлег, туалет, воздух, даже естественную половую принадлежность. Все "технологии" зоны уже разобраны и жестко контролируются. Травмы и потери сопровождают любой выбор. Мир, достигаемый в борьбе, все равно остается шатким, уродливым, зависимым, требующим вновь и вновь силового подтверждения. И все "разборки" остаются под Вышним контролем, откуда всегда всё могут перевернуть по своим прихотям.
"Гектор вновь подымется к бою… Рати ахеян вновь отразит… В бегстве они упадут на суда Ахиллеса Пелида. Царь Ахиллес ополчит на сражение друга Патрокла, коего в битве копьем поразит шлемоблещущий Гектор…
С оного времени – не раньше, но и не позже, – я сотворю,
И уже невозвратно, доколе ахейцы
Трои святой не возьмут по советам премудрой Афины.
Так пока не свершится, гнева ни сам не смягчу, ни другому
Богу бессмертному я аргивян защищать не позволю,
Прежде пока не исполнится все упованье Пелида.
Так я обещал и так утвердил я моей головою.
(Ил.15.60-75)
Dixi – так и будут подытоживать высказывания императоры, прямые наследники Олимпийских авторитетов. Впрочем, гнев древних царей – всегда феномен божественной сущности, неизменная пребывающая тяжкая сила, так либо иначе "достающая" своих оппонентов. Но гнев Зевса – нечто особое, открывает какую-то страшную реальность, которая не подлежит обычному человеческому рассмотрению, – беду бед и ужас ужасов. Хаос, Эреб, Эринии. Какие-то пыточные, бесчеловечные, разрушительные стихии, управленные огненною силою Зевса, хранимые в глубинах Земли, но и выводимые наружу. Любая «зона» беременна страхом перед каким-то большим, уже «беспредельным» насилием.
Молнии Зевса заставляют трепетать ахейских героев, способных в других случаях "отмороженно" нападать с оружием на иных богов. Небесный огонь, грохот, запах горелого воздуха напоминает им о внезапной гибели, о силе, которой никогда невозможно противостоять человеку, о чем-то еще более страшном, жутком, необъяснимом и невыговариваемом.
Пламя, подымающееся над разореным великим городом, над погребальным костром героя, – "огненна сила железна", – свет и знак последнего, яростного и совершенного переворота, которым утвержден нынешний миропорядок…
Знание этого гнева, ненависти, тяжко пыхающей в лицо, отличает героя от прочих молодых невежд. Мудрый и сильный человек уже "посидел на пепле". Сами боги всегда помнят и трепещут "Верховного гнева".
"Матерь, тебя убеждаю",
– молит Гефест разгневанную Геру,-
"Хоть и сама ты премудра,
Зевсу царю окажи покорность, да паки бессмертный
Гневом не грянет и нам не смутит безмятежного пира".
Зевс велик своим гневом, которым обуздывает и детей, и родственников, и таким образом правит мир. Он, правда, похож на престарелого, но еще крепкого Каина, построившего города, народившего детей и внуков, разделивший им землю в пользование. Периодически он объявляет сбор, делает пир, где выслушивает жалобы, объявляет решения, угощает «бессмертных» легкими и приятными напитками, взирает благосклонно на смертных, которые льют кровь невинных агнцев, жгут мясо на огне в "благоухание приятное", и сам упорно молчит,– о расчлененном родительском Времени.
III. ВОЙНА
Война – ключевое событие античного мира. Впрочем, в популярном тезисе "Анархия – мать порядка", конечно, подразумевается война, убийства, рядом идущий грабеж, бесчинства и прочие разнообразные действия, совершаемые вооруженными людьми над побежденными врагами и мирным населением. Мандельштам находил здесь "вечный эллинизм русского духа". Большевики – возможность устранения деспотии для построения в дальнейшем общества, свободного от какой-либо формы "эксплуатации" человека человеком. Но война также представляет отличный шанс для скучающего обывателя, он ведь недаром смотрит блуд и насилие в своем домашнем кинотеатре. Да и многие видные политические деятели в наше время искренне жалеют о войне… В самом деле, как благородно и глубоко встревожено общество при объявлении войны, как неожиданно и замечательно обнаруживают себя самые разные люди, как несомненно, мощно, очевидно является народное единство! Союзники сплачиваются, враги обозначаются, все человеческие связи крепко испытываются. Война скоро выставляет цену людям, привязанностям, устремлениям… Отбрасывает лишнее, гонит шлаки, вычерпывает кровью неизбежную молодую, да и старую дурь… Подбирает уличных "отморозков", всегда страдающих от безделья, и делает их героями. Многие известные влиятельнейшие и авторитетные люди теряют свое положение, отодвигаются, гибнут, освобождая цивилизованное пространство для прочих неизвестных дарований. Война сбрасывает одним махом кору застарелых, наболевших проблем, продувает все легкие общества и являет, наконец, после сногсшибательного кровопролития очевидный, согласный, необходимый и прочный мир. "Какая великолепная и радикальная хирургия", – суммирует свои первые впечатления о революции интеллигентный русский доктор у Бориса Пастернака.
Но война движется гневом и ненавистью – это ее внутренний пульс и ток, основа, в которой развязываются совершенно все прочие человеческие страсти. Здесь есть великая поэзия. Гомер всматривается, восхищается и ужасается войной как таинственным богочеловеческим делом. Герои, собственно, есть люди войны, живут войною, ищут ее, но и ненавидят вполне. Они таинственно призваны; война – их Судьба.
Любопытно наблюдать, как после ссоры Агамемнона с Ахиллесом дело ахейцев совсем развалилось. Царь на пробу обронил слово, что намерен завершить войну, и вдруг, все его доблестные командиры устремляются с этой "радостной вестью" к кораблям, люди, услыхав о мире, бросают оружие, спешно собирают, пакуют награбленное, позабыв честь, и долг, и потери… Прошло девять военных лет. Очевидно, набралась усталость от смерти и крови, нечеловеческой бранной работы, кочевой лагерной жизни. Война, кстати, очень точно обозначает физиологические границы человеческого существования – необходимость есть, пить, спать, отправлять как-нибудь естественные нужды, иметь мало-мальски налаженный, пусть примитивный, быт – и таким образом оттеняет, дистанцирует другие мирные возможности жизни человека в семье, среди близких людей, в более-менее безопасном, в меру комфортном и прогнозируемом времени. Война всегда разлучает с родным, привычным, и воспроизводит лагерь. Лагерь же просто так не отпускает. Потом в человеке обнаруживается жажда войны. Даже в «Алешке Карамазовым". Вся хрупкость, недостаточность, пошлость человеческого мира сказывается здесь. Попробуйте, покажите мирному человеку оружие. О, Гомер знает в этом толк! "Вооруженный человек – другое дело!" Добропорядочный гражданин и обыватель, "облачаясь в металл", всегда преображается. Выпрямляется, вырастает, душевно крепнет, ходит по-другому, говорит, да и смотрит потверже, с металлической искрой в глазу… Герой, собственно, исходно есть просто вооруженный человек. Примеривающийся «замочить» кого другого ну, хоть, понарошку! Человеку из плоти и крови всегда несколько недостает значения, уверенности, основательности даже, среди себе подобных…
Далее вдохновение растет, когда вооруженные люди начинают строиться. Трения-недоразумения исчезают, сомнения-недомогания преодолеваются, иные органические дефекты души и тела просто исчезают в мундире, в походном строю, в следовании боевым порядком, в радостном лицезрении-послушании славным командирам. Вся обозримая совокупная человеческая природа приходит в ощутимо приподнятое движение на марше, спрямляясь, проясняясь в монолите полка, армии, страны, единодушно устремленной к решительному бою, к победе. Война стирает, сминает помпезные, вялые, равнинные формы человеческой жизни, вносит ясность и простоту, открывает строгий рельеф Колхидских гор. Гомер восхищен боевыми порядками, боги любуются ратями, блеском доспехов, волнением грозных гребней на шлемах, стройностью, мужеством, лаконичностью форм. Потом, все эти упражнения, поединки, парады…
Существует, однако, порог первой крови. Битва открывает не только великого человека, но и слабого, малодушного, растерянного, убиваемого. Любой воин, конечно, надеется убить врага и сохранить свою жизнь, или уж найти славную смерть на людях… Но как же исключить безобразие на войне?
Герои медлят, произносят требования, клятвы, угрозы, предлагают единоборства. Всегда лучше ограничиться показательным боем, обойтись малой кровью. Пусть виновники поспорят, выяснят отношения… Но человек предполагает, располагают боги. Человек, взявший меч, понесет его не напрасно.
«Пандар стоял и при нем густые ряды щитоносцев.
Став близ него, устремила богиня крылатые речи:
Будешь ли мне ты послушен сын Ликаона?
Смеешь ли быстрой стрелой ударить в царя Менелая?
В Трое от каждого ты благодарность и славу стяжаешь».
( Ил. IV.90-95)
Вот она, чарующая, стремительная простота военных решений. Человеческий славный час!
«Разом повлек он и уши стрелы, и воловую жилу;
Жилу привлек до сосца и до лука железо пернатой;
И едва круговидный огромный свой лук изогнул он,
Рог заскрипел, тетива загудела, и прянула стрелка
Остроконечная, жадная в сонмы влететь супротивных»
( Ил. IV.120-125.)
Разговоры кончены. Падает, покрываясь кровью раненый Менелай. В ужас приходит его царственный брат и ужас, конечно, сменяется яростным гневом.
«Ужас, насильственный Страх, ненасытная бешенством Распря
Бога войны, мужегубца Арея сестра и подруга;
Малая в самом начале, она пресмыкается; после
В небо уходит главой, а стопами по долу ступает».
( Ил. IV. 440.)
Гомер духовидец. Он несомненно видит духов убийственной злобы, полетевших меж войсками, совершающих таинственное, темное и необратимое разделение людей. Страх смерти, поражения, поругания отступает перед ненавистью.
«Словно ко брегу гремучему быстрые волны морские
Идут, гряда за грядою, клубимые Зефиром ветром;
Прежде средь моря они воздымаются, после нахлынув
С громом об берег дробятся ужасным, и выше утесов
Волны понурые плещут и брызжут соленую пену,-
Так непрестанно, толпа за толпою, данаев фаланги в бой устремлялись».
«Рати одна на другую идущие, чуть соступились
Разом сразилися кожи, сразилися копья и силы
Воинов медью одеянных; выпуклобляшные разом
Сшиблись щиты со щитами; гром раздался ужасный.
Вместе смешались победные крики и смертные стоны
Воев губящих и гибнущих; кровью земля заструилась».
(Ил. IV. 440-445.)
Время битвы – другое время; другое бытие. Страх смерти, боли, бешеная злоба и порождаемая ими отвага, безумная освободительная радость, ликование при виде пораженного противника и внезапный липкий расслабляющий ужас от собственных ран, сплавляются в плотную нераздельную энергийную ткань сражения. Сущность боя,– убивать, поражать, страшить, либо быть убиту, повержену, искалечену. Медлить и рассуждать здесь нельзя; можно лишь улавливать, ориентироваться, уворачиваться в стремительных, мощных, гибельных токах. Воины вынуждены постоянно, с огромным крайним напряжением удерживать и перетягивать жуткое полотно, сплетшее внезапно жизни и смерти, силы и лица.
Битва – общее дело. Существует особая, экстренная, свалочная и волевая социальность войны. Каждое поражение товарища требует немедленного ответного удара, иначе инициатива перебрасывается к противнику, смерть и ужас – эти яростные слепые стихии словно прозревают, разворачиваются и набрасываются на вас. Средоточие боя, правда, похоже на пламя, колеблемое и раздуваемое какими-то ветрами, и эту «огненную» терминологию четко соблюдает Гомер.
«Там он дух испустил и при нем загорелося дело,-
Яростный бой меж троян и ахеян: как волки, бросались
Вои одни на других; человек с человеком сцеплялся».
( Ил. IV. 470.)
IV. МЕДНОЕ ПОРАЖЕНИЕ.
Известно ли тебе, уважаемый читатель, что испытывает человек, поражая другого металлом,– в грудь «подле сосца», в крайне болезненный пах; отсекает руки и ноги, пробивает голову в лоб, в зубы, в глотку медью «подсекающею язык», вышибает «на хрен» глаза из орбит? Со скрежетом и хрустом и тяжким стоном поверженного в прах человека… Почему, зачем автор столь подробно, длинно, тщательно повествует как медь «врывается в черепа», расседает «плечо от хребта» и до пояса, вываливает на песок из вспоротого живота окровавленные горячие внутренности корчащегося, тяжко мучающегося человека, пока смерть не погасит над ним свет? И везде кровь алая, брызжущая, либо темная, черная, мешающаяся с пылью и сором, медленно заливающая землю. Почему, зачем эта длящаяся, сосредоточенная медитация над расстерзанием человеческого тела вплоть до смерти и больше – попытки изощренного, бессмысленного поругания над поверженным мертвым врагом? Он словно смотрит и не может понять увиденное, не в силах поверить своим глазам этот поэт, ослепший от горя и ужаса, но не отведший глаз.
V.ПУЛЬСАЦИЯ БОЯ.
Внутри боя человек не живет по- человечески… Не имеет мыслей, чувств, пространства и времени в обычном значении этих слов. В битве правят истовость, одержимость, отвага, либо внезапное бессилие, непреодолимый страх, паника. Люди оказываются во власти могучих стихий, среди которых, у них, в сущности, нет выбора. Диомед вдохновляемый Афиной, казалось бы совершенно неудержим, но, заметив Ареса рядом с Гектором в смущении отступает, идет прочь с поля боя, словно поруганный взрослыми пионер. Великий Агаменон часто совершенно не владеет собой, прочие герои обнаруживают смятение и страх, что не мешает им совершать подвиги в других случаях. Эти люди, несомненно, умеют воевать, подобраться для боя, решиться, выложиться полностью и целиком,– всем сердцем, всею душою, всею крепостью,– войти в раж, потерять себя в стремительном течении битвы, но не предупредить её исход, собственную удачу, или даже постоянное пребывание в основном сражении. Здесь боги.
Раненый Диомед метит в Пандара; копье направляет Афина,– «в нос близ очей сквозь белые зубы…» Рухнулся он с колесницы, взгремели на падшем доспехи.(Ил.V.290)
Вдохновленный успехом герой нападая, наносит рану самой Афродите, обнаруживает у богини обычное болезное тело, впрочем, неубиваемое и с другими возможностями врачевания. Но далее вынужден отступить, а импульс боя боги перебрасывают Гектору и троянам, от него вновь Аяксу Теламониду—ахейцу великому. Так пламя в костре перебирается с одного сучка на другой. И, если один человек пал, другой загорается местью. Боги непрерывно хлопочут, суетятся, толкутся среди воинов, помогают одним, «подставляют» других, следят за градусом и направлением продолжающегося смертоубийства. Героев они, несомненно, используют, впрочем, до поры, до времени, как дорогие и ценные орудия; при том сами олимпийцы непрестанно пытаются свести свои бесконечно длинные, вечные счёты. По воле богов бой может длиться и длиться, также, внезапно, закончиться. И, тогда, потрясенные смертельно уставшие люди смывают кровь, принимают какую-нибудь пищу, спят короткие тревожные часы…
VI.ГЛУБИНА ВОЙНЫ.
Человек ко всему привыкает даже к погибели. Может привыкнуть. Наступает военное время и приходят будни войны. Что-то начинает повторяться, опознаваться среди, казалось бы, последних человеческих усилий, движений, гибели; жизнь поруганная и надломленная, шарахнутая тонко протягивается, чертит, огибает и завершает-таки некоторый круг вокруг жерла смерти. А в морщинах и складках одеяний войны залегает узнаваемая и уже неизменная человеческая рутина, которая, конечно, плохо приметна для героя,– необходимость просыпаться утром, принужденно двигать усталым и больным телом; выпускать мочу, проглотить хоть, впрок, что-нибудь из еды, облачаться в тяжелые доспехи, вспоминая себя, предшествующие события, а то и родных оставшихся за морем, отгоняя пустые вопросы, придавливая ропотную, стонущую душу, подчиняясь привычной жесткой вязи наступающего злого дня. Схема войны очень простая. Приготовление – бой – «медное поражение» плоти – переменчивая пульсация битвы, – хлопоты героев и богов,– пауза, перемирие с каким-либо отдыхом, уборкой тел, дележом добычи,– молитвами и жертвами богам. Затем новое кровопролитие. Так прошло девять лет.
Наверное, это условный срок. Место и время компании были другие. Война была очень долгой, дает нам понять автор. Многие люди выросли и потерялись в сражениях, на каких-то путях в Азии или в Африке, где их разбросала судьба. Смерть, кровь, потери, разлука с родными стали привычным и неизменным положением в жизни героев. И в какой-то момент возвращение стало невозможно. Что-то произошло в этой войне, открылась бездна вторая. В VIII главе «Илиады» действие поворачивается таким образом, что все предыдущее оказывается лишь подготовительными мероприятиями. « Это горюшко, – не горе; горе будет впереди»,– так поучает волшебный конек русского бедолагу в известной сказке Ершова. Формально, у Гомера происходит выступление Зевса: до сих пор Верховный наблюдал, теперь же прямо вмешивается в сражение. По-существу, озвучивается и совершается миф,– «священная история»,– главная история, если угодно, в которой у каждого участника своя очень жестко определяемая роль. Античное «царство божие» приходит следующим образом. Царь небесный пред своим выходом властно предупреждает: не мешать!
Есть «пропасть далекая, где под землей глубочайшая бездна
Где и медяный помост и ворота железные, – Тартар
Столь далекий от ада, как светлое небо от дола!
Там он (противник Зевеса) почувствует, сколько могучее всех я бессмертных»
(Ил.VIII.10-15)
Любопытно, что этим бессмертным и блаженным обитателям Олимпа приходится постоянно напоминать, кто в доме хозяин. Подобный недружественный посыл оттеняет упоминание меди, железа и глубокой ямы, где в купе с какими-то чудищами бессрочно томятся пленники. Предупредив, таким образом, бессмертных, владыка Олимпа разворачивается к смертным и, не говоря худого слова бросает губящий огонь среди войска.
«Страшно грянул с Иды Кронид и Перун по лазури
Пламенный бросил в рати ахейские, увидя,
Все изумились, покрылися лица ужасом бледным»
(Ил.VIII. 75)
Диомед с Нестором мужественно пытаются возглавить сопротивление ошеломленных воинов, но тщетно, «трижды с Идейского Гаргара грозно гремел повелитель Зевес, возвещая троянам победу».
Воодушевленный Гектор бросается на противника и совершенно опрокидывает ахейские отряды.
«Храбрость троян Олимпиец Кронион возвысил;
Прямо к глубокому рву трояне погнали ахеян;
Гектор вперед между первыми несся могучестью гордый.
Словно как пес быстрорыщущий льва или дикого вепря,
Следом гоня и на резвые ноги надеяся ловит
То за бока, то за бедра и все стережет извороты,-
Так шлемоблещущий Гектор данаев гнал непрестанно,
Мужа последнего пикой сражая: бежали данаи…
Подле судов удержались от бега ахейские мужи.
Там ободряя друг друга и руки горе воздевая,
Всех олимпийских богов умоляли мольбой громогласной».
(Ил.VIII. 335-345)
И были услышаны. Афина и Гера, покровительствующие ахейцам, не выдержав, бросаются на помощь, но тут же останавливаются жестко одернутые Зевсом; устрашенные, опечаленные покорно возвращаются на Олимп, садятся «в златые кресла», вынужденные наблюдать избиение своих любимцев.
«Хорошо что вы послушались» – ободряет их Зевс,– а то бы, ведь, никогда уже и не вернулись на эти места. Теперь смотрите, «как будет Кронид многомощный
Боле еще истреблять ополчение храбрых данаев:
Ибо от брани руки не спокоит стремительный Гектор
Прежде, пока при судах не воспрянет Пелид быстроногий,
В день как уже пред кормами их воинства будут сражаться,
В страшной столпясь тесноте, вкруг Патроклова мертвого тела.
Так суждено!»
А пылающий гнев жены Верховный вменяет в ничто.
(Ил.VIII. 470-480).
Миф есть рассказ о необратимых событиях. Люди и боги начинают, ведут войну, но оказываются в другой, несравненно большей истории, которая необратимо увязывает события, вещи, людей и зверей, присутствующих, но и отсутствующих, живых и мертвых, бессмертных и смертных. Кто и когда открыл эту Большую историю, длящуюся ныне, чудесную и страшную, которую складывает и выпевает поэт?
Если смотреть по масштабу и единству художественной связности повествования, то, конечно, Гомер, кто бы он ни был. Но по его собственному убеждению – боги, Зевс. Впрочем, сам автор не задается подобным вопросом, вернее, не рассчитывает получить ответ. Он знает, что знает немного, что-то высматривает, глубоко переживает и не пытается даже разделить известное от неизвестного в обычае нашего разумения, – вряд – ли, Гомер способен был поставить подобную задачу, и, если бы понял наши намерения, то, конечно, не одобрил.
Все видимое всегда беременно невидимым. Боги и Зевс проживают неподалеку, а то и просто становятся рядом в битве. В Большой Истории, настоящей жизни, если угодно, только Зевс желает и творит что хочет. Гера поясняет Афине:
«Нет светлоокая дочь Эгиохова! Я не желаю
Я не позволю себе против Зевса за смертных сражаться!
Пусть между ними единый живет, а другой погибает,
Как предназначено; Зевс совещаяся с собственным сердцем
Сам да присудит, что следует Трои сынам и ахейцам».
(Ил.VIII.430)
И то, что хочет Верховный – знает он сам. Здесь намечена граница мысли, но не граница данности. Зевс не решается спасти Сарпедона, перевоспитать склочную жену или избавить от смерти, страданий людей, не потому что он не может этого сделать. У богов свои соображения; люди, отчасти могут опознавать вышнюю волю, но и заблуждаться. В целом, большей частью, герои Гомера могут лишь довериться богу в неведении. Вот это неведомое, исходящее от богов есть Судьба.
Рати уже вступили в бой, уже потекла привычная кровь злобы сего дня, но лишь «сияющий Гелиос стал на средине небесной,
Зевс распростер, промыслитель, весы золотые; на них он
Бросил два жребия Смерти, в сон погружающей долгий:
Жребий троян конеборных и меднооружных данаев;
Взял посредине и поднял: данайских сынов преклонился
День роковой, данайских сынов до земли многоплодной
Жребий спустился…»
(Ил.VIII.65-70)
Гомер не философ. Что такое Судьба, в каких отношениях с нею Зевс и боги,– этот вопрос не формулируется. С другой стороны, встреча героя с судьбой, пожалуй, главное, что волнует и занимает нашего автора; ведь, герой идет навстречу своей судьбе, опознает и совершает, так или иначе, судьбоносный выбор и, за все последствия подобного поступка ему приходится отвечать жизнью своею, жизнью близких и дальних, в необозримом вечном пространстве Олимпийского миропорядка. Зевс здесь выступает главным гарантом «осуществления исполнения наказаний». Эта точная терминология. Судьба есть неизбежное, неведомое и насильственное будущее античного человека. «Судьбы своей никто не избегнул». Важен характер этой Встречи. В первом значении, Судьба – просто смерть и страдания. Физическое разрушение человека. Также жизнь человеческая оправленная «в эти вещи». Жизнь в её глубине и масштабе, в непостижимом смешении радости, благополучия, ликования, горя, плача и бед. Жизнь остается таинственным, замечательным, светлым даром, вдохновляющим человека. И никакая жизнь не минует горя, смерти, страданий. Никакая смерть не в силах перечеркнуть жизнь в её молодости и начале. Такова Судьба,– это жизнь, проводимая через смерть, славная и жалкая человеческая участь.
VII. ПОСОЛЬСТВО ГЕРОЕВ.
IX песня- водораздел «Илиады». Ахейцы удерживаются и располагаются на берегу у кораблей, как и в начале компании. Это исходное положение. Но как изменилась атмосфера! Девять лет миновали боев, потерь, тяжкого труда, грубой лагерной жизни; герои поистрепались, но пока сохраняли надежду. Теперь боги ставят войско на порог гибели. Разгромленные, прижатые к морю, укрытые ненадолго покровом ночи от разъяренного и вдохновленного врага,-можно представить себе душевное состояние этих людей ожидающих день грядущий.
«Ужас, свыше ниспосланный, бегства дрожащего спутник
Грусть нестерпимая самых отважнейших дух поражает…