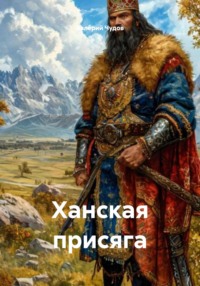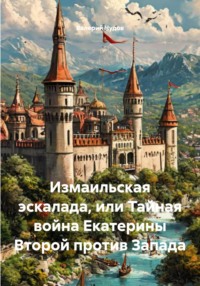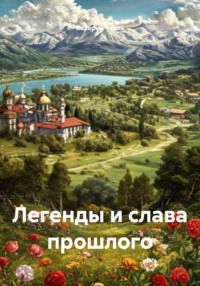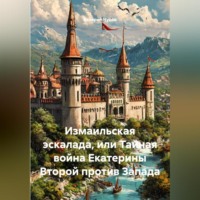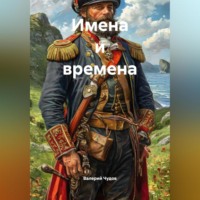Полная версия
Просветители и священники-герои
В этих изданиях со всей полнотой проявилось присущее ему чувство стиля. Печатник показал не только хорошее знакомство с традициями славянской книги, прежде всего – московской, но и понимание того, как сделать книгу и удобной, и красивой.
Все эти издания напечатаны с киноварью, крупной уставной азбукой великорусского почерка, в которую по требованиям местного произношения были введены юсы (буквы древнерусского алфавита, обозначавшие носовые гласные звуки). Эта азбука стала началом, так называемых евангельских шрифтов, которые в последующей церковной печати устраивались по её образцу. Книги были богато оформлены, напечатаны на хорошей бумаге, крупным шрифтом, с орнаментом и гравюрами, украшены ягодами, лопнувшими гранатовыми яблоками, шишками, извивающимися стеблями.
Отличительными чертами книг Петра Мстиславца являлись крупный красивый шрифт, заставки с растительно-цветочным фоном, красная вязь в начале глав, умелый набор текста с хорошим выделением строк и разнообразие надстрочных букв. Этот шрифт, которым еще долго пользовались впоследствии, Петр Мстиславец разработал специально для новых книг.
«Евангелие» и «Псалтырь» снабжены послесловиями, с литературной точки зрения не изученными, но обнаруживающими знакомство Петра Мстиславца с «Диалектикою» Иоанна Дамаскина, сочинениями Артемия Троицкого. Роль Петра Мстиславца в написании послесловий к книгам, напечатанным им совместно с Иваном Федоровым, не известна.
Так, в послесловии к «Евангелию» Мстиславец рассказывает, как благочестивые мужи, жители Вильны, пригласили его на работу; он с благодарностью и уважением говорит об этих людях, среди общего развала и отступничества оставшихся верными православию. Они-то и убедили его взяться за книгопечатание: «Велми благодарим бога, яко и еще обретаются избрании божии, паче же в нынешнее время лукавое, посреде рода строптива и развращенна. Но понеже понудили есте нас недостойных выше нашея меры на сие дело. Аз же есмь человек грешен и немощен, бояхся начати таковая. К тому же смотряя свое неприлежание и леность и неразумие, на мнозе отлагах», то есть если бы не их просьбы, он откладывал бы свое намерение приняться за дело, которое считал для себя непосильным.
В послесловии к «Псалтырю», Мстиславец вновь говорит, что и эту книгу он печатает, уступая чужим настояниям, хотя и чувствует себя невеждой, с ограниченным умом, не умеющим владеть языком: «Еже оубо тесное разума и недооуметелное языка моего сведый…». Из общего числа благочестивых мужей, побудивших его взяться за труд печатания, он выделяет двоих Зарецких: «Но милостиви ми будите богопочтеннии, милостивый пане скарбный и пане Зенове Зарецкии, молюся, вашим заповедем покрившуся и приемлющу послушаниа, напечатах сию книгу». По этим послесловиям ясно видна инициатива Зарецких и их влияние на устройство типографии Мстиславца и Мамоничей: «умышлением и промышлением его милости пана скарбного, старосты упицкого, Ивана Семеновича Зарецкого, и брата его пана Зенова, бурмистра места виленского».
К сожалению, деятельность Мстиславца в типографии Мамоничей ограничилась тремя изданиями – «Евангелием», «Псалтырем» и «Часовником». По окончании работ над этими изданиями согласие между Мамоничами и Мстиславцем нарушилось. Вскоре после выпуска «Часовника» между «друкарем» и финансировавшими его типографию Мамоничами произошел разрыв.
То, что часто происходило с подвижниками, произошло и с Петром Мстиславцем. Его благородные помыслы разбились о суровую действительность. В свое время из-за этого прекратил печатную деятельность Франциск Скорина, и вот его последователь оказался в таком же положении. Материальные трудности, жизненная нужда, конфликты могут нанести смертельный удар по самым чистым и благородным намерениям.
Судить о причинах разрыва между ними очень трудно, так как их имущественные отношения совершенно не выяснены. Мстиславец в своих послесловиях несколько раз повторял, что как средства на открытие типографии, так и помещение для типографии и для него самого были предоставлены Мамоничами. Кроме своего искусства и труда, Мстиславец ничего не внес в общее дело, иначе он, нужно думать, упомянул бы об этом. На каких условиях он согласился работать у Мамоничей, неизвестно. О деловой стороне своих отношений с Мамоничами он не говорит ни слова. Несомненно, что в начале 1576 года хорошие отношения между хозяевами и печатником еще не были нарушены: в послесловии, относящемся к январю этого года, печатник говорит, что хозяева «от своих им стежаний изобилно в всем нас» довольствовали. Но в том же году произошел разрыв и началась тяжба. Может быть, хозяева недооценили труд печатника, и, воспользовавшись отсутствием точной договоренности, не захотели разделить по справедливости доход, полученный от продажи напечатанных Мстиславцем трех изданий.
Существует протокол заседания виленского городского суда от мая 1577 года, на котором разбиралась жалоба друкаря Петра Тимофеева Мстиславца на виленского мещанина Кузьму Ивановича Мамонича.
Дело заключалось в следующем. Годом ранее суд рассматривал тяжбу между Кузьмой Мамоничем и Петром Мстиславцем по разделу печатни, которую они устроили «сполным» накладом, то есть на общие средства. Дело разбиралось в марте 1576 году полюбовными судьями, уважаемыми («зацными») людьми, избранными обеими сторонами. Эти судьи постановили: все нераспроданные еще экземпляры напечатанных в типографии изданий – Евангелий, Псалтырей, Часовников – оставить Мамоничу, а все типографское оборудование – Мстиславцу («вшелякое начине друкарни належачое, што кольвек на тот час при той друкарни было, и за чим дей есмо тыя книги сполным накладом с Кузмой друковали»). Сверх того, по постановлению судей Мамонич должен был заплатить Мстиславцу 30 коп грошей; на эти 30 коп Мамонич дал Мстиславцу собственноручную расписку. Обе стороны предварительно обязались внести каждая по 200 коп грошей; если одна из сторон не подчинится постановлению «компромисарского» (третейского) суда, то внесенные ею 200 коп должны поступить в равных долях судьям и противной стороне. Все типографское имущество было подробно описано в присутствии судей и обеих сторон и запечатано в типографии.
В течение целого года Мамонич не выполнял решения суда; он не заплатил Мстиславцу 30 коп грошей и не выдал ему типографского оборудования. Поэтому Мстиславец вызвал Кузьму Мамонича в виленскую ратушу «пред панов бурмистров», имея при себе двух свидетелей (один из них возный – судебный пристав), которые показали, что Мамонич действительно не исполнил постановления суда. На этом основании Мстиславец требовал с него, кроме 30 коп и типографского оборудования, еще и штраф в 100 коп грошей: «што ми винен коп тридцать водля описе своего так теж и о заруку, в листе кумпромисном описаную». Не сохранилось никаких документов о решении этого требования. По всей вероятности местный богач Мамонич мог не считаться с постановлением суда и решил захватить типографское имущество.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.