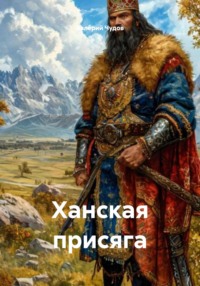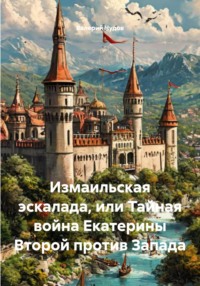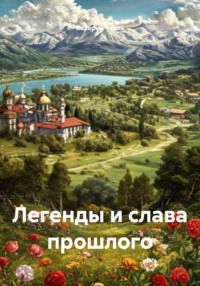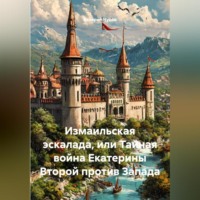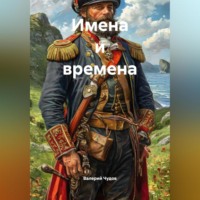Полная версия
Просветители и священники-герои

Валерий Чудов
Просветители и священники-герои
Петр Мстиславец – российский и белорусский книгопечатник
Пётр Тимофеевич Мстиславец (Тимофеев) — мастер книгопечатного дела, типограф, ближайший сподвижник и соратник первопечатника Ивана Фёдорова, один из основателей русского книгопечатания. Его можно считать и основателем белорусской национальной письменной культуры, продолжателем традиций Франциска Скорины, духовным просветителем, писателем, педагогом и общественным деятелем.
Во второй половине шестнадцатого столетия Московское государство и церковь крайне нуждались в богослужебных книгах. В октябре 1552 года пало Казанское царство. Началось освоение завоеванного края. Немалую роль в этом играла церковь. Начался сбор богослужебных книг для Казани. Он производился в монастырях и церквах по всему Московскому государству. Но книг не хватало. Переписчики не могли полностью удовлетворить спрос на них. Кроме того, в священных книгах из-за многочисленных переписываний накопилось немало ошибок. И, несмотря на то, что по приказанию царя Иоанна Грозного были приняты меры к устранению ошибок, исправить все прежде написанные книги было невозможно.
Развитие русской литературы и письменности, интереса русской культуры требовали распространения книгопечатания. Тогда царь задумался об устройстве печатного дела.
И в 1553 году в Москве появилась первая типография. Она была частная, находилась в московском доме протопопа Сильвестра и была больше похожа на мастерскую. Книги там выходили анонимные, тираж их был небольшим. В 1560 году Сильвестр попал в опалу и был сослан в Соловецкий монастырь. Типографию сожгли.
После чего Иван IV Васильевич решил взять изготовление богослужебных книг в свои руки, что прямо отвечало политике централизации, усиленно проводимой в политической, экономической и культурной жизни Московского государства.
Желание царя открыть в Москве государственную типографию поддержал его духовный наставник митрополит Макарий, который возлагал большие надежды на книгопечатание, полагая, что с помощью него удастся избежать искажений в церковных книгах.
– А есть ли у нас люди, столь способные к такому хитрому делу? – спросил царь у митрополита.
– Один есть, государь. Иван Федоров, живет в Москве и служит диаконом в кремлевской церкви Николы Гостунского. Весьма искусный печатник, выпускавший безвыходные издания у Сильвестра. Но он один не сможет поднять столь великое дело. Нужен еще человек, такой же смышленый. Но в Москве у нас нет такого.
– Ищи, Владыко. А я спрошу у посла литовского Володкевича, может у него есть на примете человек из княжества.
– Это было бы очень хорошо, государь. У них это дело хорошо поставлено.
Литовский посол внимательно отнесся к просьбе царя и уже через несколько месяцев митрополит принимал на своем подворье нового мастера.
Это был мужчина, на вид лет тридцати-тридцати пяти, среднего роста, с небольшой бородкой и карими глазами на круглом лице. Вид серьезный, держался с достоинством.
– Кто таков? – спросил митрополит.
– Петр Тимофеев из Мстиславля.
– В письме сказано, что ты искусен и смышлен в печатном деле. Где обучался?
– У фрягов.
– В Италии?
– Бывал и там.
– Православный?
В ответ иноземец трижды перекрестился и поклонился.
– С богослужебными книгами знаком?
– По многу раз прочитаны.
– Где учился?
– Окончил школу при православном братстве в Мстиславле. Благодаря добрым людям попал в Вильну. Оттуда в Краковский университет. Затем, в Италию. Вернулся в Вильну. Работы не было, вот и согласился приехать на Русь. Помочь богоугодному делу.
Поговорив еще немного, митрополит остался доволен.
– Иди, знакомься с нашими делами и сотоварищем своим Иваном Федоровым. На довольствие будешь поставлен за счет казны.
Мастер Иван Федоров, кряжистый мужик сорока с небольшим лет, с широкой бородой и голубыми глазами, принял иноземца сдержано. Протянул руку, представился.
– Меня Москвитин зовут. Я из Москвы. А ты, значит, из Мстиславля? Будем звать тебя Мстиславец. Не возражаешь?
Петр Тимофеев не возражал.
– А что тебя подвигло на работу печатником? – поинтересовался Федоров.
– С детства был расположен к рисованию. А будучи в Вильне увидел книгу Франциска Скорины. Запала в душу. Тогда и решил стать книгопечатником.
Федоров кивнул головой. Будто соглашался, что и он такой.
Началась их совместная работа.
Вскоре Федоров понял, что Петр Мстиславец искусный ремесленник: он умел резать по дереву, знал литейное производство и столярное дело. Все это пригодилось впоследствии, когда ему пришлось заняться печатанием книг. Ведь все типографское оборудование – печатный стан, литероотливную форму, красконабивные кожаные подушки (мацы) и другие принадлежности – изготовлялось в те времена самими печатниками или при их непосредственном участии. Печатники также сами составляли краску, подбирали сплав для отливки литер.
Через месяц Иван и Петр были уже «друзья-не-разлей-вода».
Наконец царю было доложено о готовности мастеров приступить к печатанию книг.
Вопрос об основании типографии решился в 1561 году.
Иван Грозный повелел на деньги казны устроить в Китай-городе Печатный двор. С 1562 года началось строительство новой типографии на Никольской улице вблизи Заиконоспасского монастыря. Главными ее деятелями стали Иван Федоров и его клеврет (сотоварищ) уроженец города Мстиславля печатник Петр Тимофеев Мстиславец.
Так в Москве сошлись жизненные пути Федорова и Мстиславца. Здесь было положено начало их тесному творческому содружеству. Они совместными усилиями создавали типографию на Никольском крестце, «добывали» оборудование и материалы. И многие годы эти два человека жили едиными помыслами, рука об руку шли к единой цели.
Посоветовавшись с царем и митрополитом решено было первой книгой выпустить «Деяния апостольска и Послания соборная и святаго апостола Павла послания» (известные как «Апостол»). «Апостол» был выбран для первого издания государственной типографии, поскольку прежде в Древней Руси он использовался для обучения духовенства. В этой книге заключены первые образцы толкования учениками Христа Святого Писания.
Год ушел на подготовительные работы. Необходимо было отлить шрифты, изготовить оборудование. Довольно продолжительное время заняла и подготовка текста «Апостола».
Была проведена значительная текстологическая и редакторская работа. Поскольку, как признавались печатники, старые церковнославянские книги Священного писания были «испорчены» переписчиками, то перед просветителями возникла сложная задача – исправить ошибки, а это было по силам только высокообразованным богословам, лингвистам, филологам. Поэтому к работе были привлечены наиболее сведущие священники, да и сам митрополит.
Первопечатник того времени обязан был быть мастером на все руки. Федоров и Мстиславец владели многими очень разными навыками. В качестве граверов-резчиков они вырезали пуансоны и гравировали по дереву. Будучи литейщиками, отливали литеры. В образе столяров и плотников мастерили деревянные детали тогдашнего типографского оборудования. А также выполняли работу наборщиков, печатников, переплетчиков, редакторов, комментаторов, авторов предисловий.
Всю работу по отливке шрифта, гравированию досок орнамента и иллюстраций Федоров и Мстиславец делали сами, так же как набор и печатание, но при этом им помогали люди менее квалифицированные, а там, где это требовалось, и мастера других профессий.
В рождении книги участвовало по крайней мере 8 ремесленников: доброписец чернописный – писец, воспроизводивший основной текст; статейный писец, воспроизводивший киноварью вязь, подстрочные и надстрочные записи, точки и другой текст, впоследствии прописывавшийся золотом; заставочный писец – художник, рисовавший заставки и буквицы; живописец иконный – художник, рисовавший миниатюры; златописец – мастер, покрывавший золотом «статии», заставки и отдельные участки миниатюр; златокузнец, среброкузнец и сканный мастер – ювелиры, изготовлявшие драгоценный оклад книги.
Следующие два года царь провел в походах вне Москвы.
21 марта 1563 года государь с победой вернулся в Москву. Ознакомившись с состоянием дела, он остался доволен. И месяц спустя, 19 апреля, Иван Федоров и Петр Тимофеев Мстиславец «начаша печатати… святыя книги Деяния апостольска и Послания соборная и святаго апостола Павла послания». Помимо царя у истоков книгопечатания в Москве стоял тогдашний глава русской церкви митрополит Макарий. Он благословил издание «Апостола», но до выхода книги в свет не дожил и скончался в 1563 году.
Поддержанные, обласканные царем, благословленные митрополитом, первопечатники успешно свершили свой нелегкий труд и к 1 марта 1564 года выпустили в свет первую точно датированную московскую печатную книгу.
«Апостол» был напечатан на плотной голландской бумаге, которая стоила дорого. Первенец русской печати состоял из 267 листов, в 25 строк на каждой странице. Тираж – около тысячи экземпляров. Издание это как в текстологическом, так и в полиграфическом смысле значительно превосходило предшествовавшие ему анонимные. Первопечатники оформили «Апостол» по всем правилам палеографического искусства того времени. Творчески переработав орнаментные приёмы школы Феодосия Изографа (ведущего оформителя русской рукописной книги) в «Апостоле» сделаны богатые заставки каждого раздела, красочные виньетки в верхней части страниц, буквицы – инициалы. По обычаю того времени, она отпечатана с разными украшениями, с рисунком, где изображен евангелист Лука. Он держит развернутый свиток, на котором, написано: «первое убо слово».
Неизвестно, как были распределены функции между печатниками в период создания «Апостола», какую работу выполнял каждый из них. Но утверждают, что Мстиславец, кроме прочих дел занимался гравированием буквиц, украшений – заставок, концовок. Он резал пунсоны, выбивал матрицы, отливал шрифт. Его считают автором гравюры, помещенной на фронтисписе «Апостола». Заставки и рамку вокруг изображения апостола Луки резал Иван Федоров, а фигуру апостола – Петр Мстиславец.
В процессе работы над «Апостолом» московские первопечатники проявили себя и незаурядными рационализаторами. Они разработали и «внедрили в производство» весьма оригинальный способ двухпрогонного печатания в две краски (в литературе его иногда называют «способом рашкета», или «способом масок»). Сначала определенные участки наборной формы, предварительно покрытой листом пергамента или бумаги с вырезанными в соответствующих местах «окнами», набивали красной. Форму заводили под пресс и получали оттиск. Затем с формы снимали рашкет, извлекали из нее «красные» строки, а вместо них устанавливали пробельный материал. Форму набивали черной краской, и далее процесс шел обычным порядном.
Подобная технология в те годы была еще неизвестна в практике типографского производства.
Первая книга была преподнесена царю. Иван Четвертый был человек любознательный от природы, один из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью и богословской эрудицией. От бабушки Софьи Палеолог он унаследовал ценнейшую библиотеку, в которую входили древние греческие рукописи. Там же хранились и некоторые книги Франциска Скорины на «русском языке».
Царь внимательно осмотрел книгу и остался доволен работой печатников. Похвалил их, а потом спросил:
– Какую следующую книгу вы собираетесь издать?
– «Часовник», государь, – ответил Иван Федоров.
– Ну что ж, книга нужная, – одобрил царь. – Для простого люда и особенно для детей – важная.
Действительно, «Часовник» (тексты молитв), в то время был не только церковно-богослужебной книгой, но и учебником. По ней учились дети. Поэтому в этой книге была особая нужда, и спрос на «Часовники» был большой.
Так, с одобрения царя, Иван Фёдоров и Петр Мстиславец приступили к изданию второй московской книги. Подготовка к печатанию «Часовника» заняла больше года. Нужно было дополнительно отлить литеры, заготовить доски для новых заставок, закупить бумагу, краски. Зато само печатание было выполнено в короткий срок: 7 августа 1565 года оно было начато, а 29 сентября того же года, то есть, менее чем через два месяца, книга была отпечатана. И так быстро Иван Федоров и Петр Мстиславец издали книгу вручную. Не успели закончить печатание «Часовника», как выяснилось, что намеченный его тираж недостаточен. Ввиду этого, по приказу царя, 2 сентября 1565 года параллельно с первым изданием стали печатать второе издание «Часовника», которое и закончили 29 октября 1565 года.
Книга получилась скромной по сравнению с «Апостолом», но стала самой распространённой в то время учебным пособием, по ней учились грамоте многие поколения россиян.
Друг от друга издания отличаются незначительными деталями. При редактировании в текст второго издания печатники внесли некоторые уточнения, кое-где добавили украшений. В «Часовнике» нет иллюстраций, пышных орнаментов и буквиц. Книга – небольшого (карманного) формата. Видимо, первопечатники намеренно придали изданию такой удобный рабочий вид. «Часовник» – одна из самых ходовых в то время книг. С одинаковым успехом ею пользовались и служители культа, и миряне. По ней учились грамоте, и книгу буквально зачитывали до дыр.
Московская типография Федорова и Мстиславца функционировала недолго. Редко случается, когда крупное, полезное начинание обходится без злобных нападок завистников, пытающихся это начинание загубить. У первопечатников тоже было немало недоброжелателей, в том числе и среди «начальников и духовных властей».
Успешная деятельность Петра Тимофеева и Ивана Федорова, несмотря на поддержку самого государя, вызвала если не сопротивление, то явное осуждение книжников, считавших кощунством механическое воспроизведение священных текстов на печатном станке. Всё это было причиною того, что первых печатников обвинили в ереси и волшебстве.
Несмотря на интерес и поддержку царя и митрополита, у первопечатников хватало недоброжелателей из числа «многих начальников». Монахи-переписчики церковных книг с появлением их печатных версий теряли почву под ногами. Инновации в XVI столетии были очень часто наказуемы, а то и опасны для жизни.
На этом пришлось прекратить работу в Москве. Как вспоминал Иван Фёдоров, типографию закрыли из-за «озлобления, часто случающегося нам от многих начальник и священноначальник и учитель, которые на нас зависти ради многие ериси умжиляли».
Кроме того, в московском государстве создалась неблагоприятная обстановка для продолжения деятельности первой государственной типографии. В январе 1565 года царь переехал в Александрову слободу и объявил об «оставлении» им государства. После челобитной из Москвы он согласился править, но на своих условиях. Вскоре была учреждена опричнина.
Внутриполитическая борьба не оставляла времени Ивану IV для забот о книгопечатании. Обострилась борьба царя с боярами. Его заняли другие дела, и заботы о типографии ослабли. Бояре, понимая, что заведение книгопечатания способствует укреплению самодержавной царской власти, к Ивану Федорову и Петру Мстиславцу относились враждебно. Также недружелюбно была настроена к ним и значительная часть духовенства.
К тому же, в начале 1566 года тяжело заболел митрополит Афанасий, поддерживавший книгопечатников.
Все эти обстоятельства и решили судьбу молодого, только еще набиравшего силу книгопечатного предприятия. Но желание и далее заниматься книгопечатанием не покидала их и в те трудные дни.
Непосредственно против первопечатников никаких мер не предпринималось, но, предчувствуя неминуемую гибель типографии, они все же посчитали за благо покинуть Москву. Надо было искать ту «незнаемую страну», где их искусство могло найти применение.
– Куда поедем, брат? – обратился Федоров к Мстиславцу.
– Надо ехать в княжество Литовское, – посоветовал Петр. – Есть там люди, готовые поддержать наше дело.
– И я так думаю, – согласился Федоров и вздохнул: – Но нужно дозволение государя.
К их удивлению царь согласился на их отъезд, да прибавил:
– Вот гетман Григорий Ходкевич просил меня прислать друкаря и друкарню, чтобы издавать русские книги, а то римская вера там начинает заполонять княжество.
Итак, в начале 1566 года первопечатники, «отпущенные» Иваном Грозным, оставили Москву и с литовским посольством Василия Загоровского направились в Великое княжество Литовское. Уехали они не с пустыми руками, прихватив с собой по тем временам главное – шрифт и гравированные доски заставок, концовок и буквиц. Печатный станок решили изготовить на месте.
(Московские опыты первопечатников были, несомненно, успешны. Высокое качество их изданий с точки зрения как оформления, так и содержания заслужило признание и их современников, и потомков. В дальнейшем издания Ивана Федорова и Петра Тимофеева Мстиславца стали образцом для новых московских печатных книг, определив не только особенности выбора формата, применения шрифтов, оформления и рубрикации их текста, но даже ту форму, в какой следовало указывать выходные сведения).
В Великом княжестве Литовском их любезно встретил гетман Григорий Ходкевич, известный ревнитель православной веры, человек весьма образованный, высоко ценивший книгу. Ходкевич был известен не только как доблестный победитель многих сражений, но и как просветитель. Он мечтал издавать книги «народу христианскому русскому литовскому, да и русскому московскому, да и повсюду всем православным христианам, иже в Болгарех, и в Сербе, в Мильтенех и Волосех». Мстиславец и Фёдоров как раз и подходили для реализации этих грандиозных планов – «научение людям».
Интерес к странствующим типографам проявил сам польский король Сигизмунд Август, милостиво приняв гостей «со всеми панами рады своей».
А гетман Ходкевич предложил Федорову и Мстиславцу заняться устройством типографии в своем имении неподалеку от Белостока. Он задумал напечатать богослужебные книги на славянском языке для поддержания Православной Церкви и защиты белорусской народности. Печатники от предложения не отказались, и вскоре обосновались в замке Ходкевича Заблудов. Это произошло в 1568 году.
Над первой книгой на литовской земле Иван Федоров и Петр Мстиславец трудились больше восьми месяцев, с 8 июля 1568 года.
17 марта 1569 года вышла в свет «Книга зовомая Евангелие учительное», выпущенная «при пановании светлейшего властителя Жигимонта Августа… в отчизном имении Г.А. Ходкевича… в месте зовомом Заблудов, на собственные средства его милости».
Это сборник бесед и поучений с толкованием евангельских текстов. Он начинался «азбучной молитвой» – первым в славянской литературе образцом стихотворной азбуки. Каждая строка молитвы начиналась очередной буквой славянского алфавита, что делало удобным для запоминания как алфавитную последовательность букв, так и истин христианской веры. Основная часть «Евангелия учительного» содержала беседы о евангельских сюжетах на каждую неделю года.
Кроме того, рассматриваемое издание включало в себя текст «Слова на Вознесение» святителя Кирилла Туровского – белорусского просветителя, выдающегося церковного писателя XII столетия, которого современники называли «русским Златоустом». Это произведение было включено в книгу, чтобы засвидетельствовать продолжение его просветительской традиции.
В полиграфическом и редакционном отношении заблудовское «Евангелие учительное» не многим отличается от московских изданий. Книга – большого формата («в лист»). Набрана она шрифтом московского «Апостола» (1564 г.). Инициалы и заглавные строки отпечатаны красной краской. Спусковая полоса украшена узорной заставкой. На некоторых листах исправлена пагинация – приклеены бумажные листки с соответствующими (верными) цифрами (ошибки были замечены печатниками после того, как тираж был готов).
Новым элементом являлся заглавный лист, на обороте которого воспроизведено гравюрное изображение родового герба гетмана Ходкевича. Этого не знала русская рукописная и московская старопечатная книга. В книге немногим более 400 листов. Первые четыре листа имеют фолиацию римскими цифрами. Несмотря на то, что книга имела большой формат и объем, ее художественное убранство было довольно скромное.
Книга была издана большим тиражом, сразу же после издания продавалась на рынках в Великом княжестве Литовском, часть ее тиража распространялась в Московском государстве.
Эта книга стала последней, которую Иван Федоров и Петр Мстиславец издали вместе. В 1569 году в Великом княжестве Литовском произошли события, которые повлияли на дальнейшую совместную работу печатников.
Пока происходило печатание «Евангелия учительного», Ходкевич уехал (10 января 1569 года) в Люблин на сейм, где после долгих дебатов был принят акт о Люблинской унии. Религиозные разногласия русских с поляками не помешали горожанам и шляхтичам стремиться к унии для получения так называемых польских свобод; уния расширила права шляхты и самоуправление городов. Крупные помещики, такие, как Григорий Ходкевич, не получали от унии никаких выгод, так как с повышением значения шляхты слабела и власть крупных феодалов. Литовско-русские вельможи грозили уехать с сейма и даже привели было эту угрозу в исполнение; они присягнули унии только тогда, когда им было объявлено, что постановление войдет в силу и в их отсутствие. Присяга состоялась 1 июля, а уже 12 августа закончился сейм.
Петр Мстиславец, проживший большую часть жизни в Великом княжестве Литовском, быстро сообразил, что их работа у Ходкевича под угрозой и предложил своему соратнику уехать в Вильну.
– С чего бы это? – удивился Иван Федоров.
Он, как человек приезжий, не мог вполне оценить значения унии и не сознавал, что положение Ходкевича сделалось более шатким.
– В городе большая нужда в книгах, – объяснял Мстиславец. – Там книгопечатание сулит больше удачи, чем в Заблудове.
– Но и здесь хорошо работается, – настаивал Федоров. – Вот сейчас новую работу можем начать. Когда гетман приедет.
– Я все-таки поеду. Осмотрюсь там. Потом, может, и вернусь сюда. Или ты туда приедешь.
– Ну, раз ты так решил, езжай, – согласился Федоров.
Они обнялись. На этом совместная издательская и типографская деятельность Федорова и Мстиславца завершилась. Их жизненные пути разошлись.
Летом 1569 года Петр Тимофеев Мстиславец уехал в Вильну, решив обосноваться в столице Великого княжества Литовского.
Первые годы он не производил никаких попыток заниматься изданием книг. По крайней мере, сведений о подобных попытках нет. В большом городе ему было сподручнее заниматься тем ремеслом, которым он владел и которое, судя по его участию в книгопечатании, определялось его умением работать с металлом, в том числе резать по стали (умение необходимое в ту пору при создании шрифта). Приезд Петра Тимофеева Мстиславца внес оживление в православную жизнь Вильны, его таланты были быстро распознаны и нашли себе применение. И он, наконец, принял участие в издании, которое инициировали богатые горожане братья Иван и Зиновий Зарецкие, первыми обратившиеся к книгопечатанию.
Вскоре Мстиславец основал там большую типографию. Начинал он практически с нуля. В городе не было ни одного печатника, поэтому создать новую типографию было для него «выше нашея меры». Мстиславца поддержали богатые православные купцы Кузьма и Лука Мамоничи, виленский бургомистр Зенон Зарецкий и его брат Иван. Печатник считал свое дело Божьим талантом, данным ему для пользы людей: «аще и един талант вверен будет, то не ленитися подабает, но прилежно делати». Вот он и продолжил «делати» книги.
И это сразу резко увеличило возможности типографии, которая смогла позволить себе печатать книги по-московски, с размахом и без экономии, то есть, с большим количеством киновари и на хорошей бумаге.
Типография Мстиславца разместилась в доме Мамоничей и была готова к маю 1574 года.
В Виленской типографии в 1575 году Петр Мстиславец издал «Четвероевангелие» (Евангелие Напрестольное), в котором помещены четыре цельностраничные гравюры с изображением евангелистов в богато орнаментированных рамках. В этой книге печатник обращается к потомкам: «Но мовим вы, и нас не забывайте трудившэхся, многогрешного Петра Тимофеева сына Мстиславца, але и тому мещитеулонки даровании ваших духовных, и здалечястоящуиалгущу ангельского хлеба и жаждущу духовного сего пива…», отмечая значение не только своего труда, но и роль книг в духовном возрастании и воспитании каждого человека.
В январе 1576 года типограф закончил печатание «Псалтыри» с гравированным на дереве фронтисписом («Царь Давид»), многочисленными заставками и буквицами.
В «доме Мамоничей» между 1574 и 1576 годами Петр Мстиславец выпустил также «Часовник».