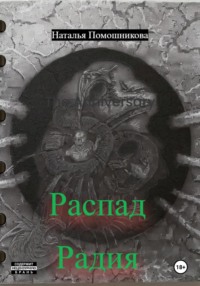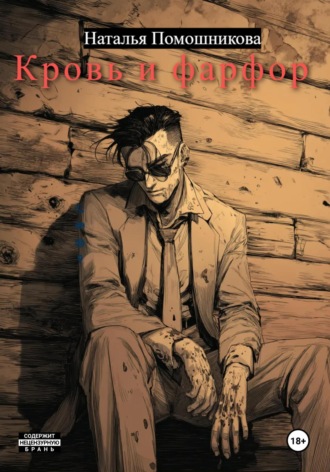
Полная версия
Кровь и фарфор

Наталья Помошникова
Кровь и фарфор
«Иногда, чтобы выжить, нужно сгореть дотла. Иногда – самому поднести спичку».
«Говорят, из пепла не возродиться. Они ошибались»
Начало.
Вода обжигала холодом, проникала под кожу, впитывалась в поры, делала ветхую ткань тряпки тяжёлой и заставляла кости ныть тупой, однообразной болью. Ариэль Коста не мыла пол – совершала ежедневный ритуал унижения, где ведро с ледяной и грязной водой служило чашей с осквернённой святыней.
Движения были лишены всякой воли: размеренные, заученные, рабские. Грубый холст платья, выданного ей, натирал кожу выше колен, оставляя красные, воспаленные полосы. Каждый мускул в пояснице кричал от протеста, выстроившись в одну напряженную, гудящую струну. Но останавливаться было непозволительно. Остановка означала бы признание – признание боли, тяжести, а значит, даровала бы ему еще одну крохотную победу. Потому тряпка без устали водила по мрамору, выписывая бессмысленные, бесконечные круги, втирая в камень запах хлорки, который давно вытеснил из обоняния все другие запахи мира. Даже запах страха.
Особняк дышал чужим, враждебным дыханием, где-то далеко, за тяжелыми дубовыми дверями гостиной, доносились приглушенные голоса, мужской смех, лязг стекла о стекло. Они пили, постоянно пили. Дорогой виски отца из хрустальных графинов матери. Этот звук стал саундтреком нового существования – вечным праздником победителей на костях побежденных.
Взгляд сосредоточился на узоре мрамора. «Арабескато…» – прошептала беззвучно, одними губами. Итальянская разновидность, добываемая в карьере близ Каррары. Белый фон, прожилки приглушенного серого и едва уловимое, словно призрак, мерцание золота. Отец выбирал его лично, говорил, что это – застывшее небо перед грозой. И вот, она водила по этому небу мокрой тряпкой, и казалось, что стирает звезды, стирает саму память о почившем доне Коста. Распухшие от воды пальцы наткнулись на едва заметную щербинку, небольшую трещинку, в которую всегда забивалась грязь. Ледяной укол пронзил воспоминание – резкий и безжалостный.
Ариэль неслась на роликах по отполированному до зеркального блеска полу, раскинув руки, словно птица. Девять лет, и весь мир лежал у ног, сияющий и принадлежащий ей. Крик восторга застрял в горле, когда колесо зацепилось за край ковра. Неловкое падение, скрежет, от которого заныли зубы, резкая боль в колене. И этот звук – ужасный, необратимый звук раскалывающегося камня. Лежала, боясь пошевелиться, глядя на зияющую трещину в идеальном мраморе, и ждала гнева. Ждала, что сейчас прибегут охранники, служанки, что отец… Но отец подошел не спеша, опустился на корточки, и дорогие туфли оказались на одном уровне с заплаканными глазами. Он не смотрел на пол, смотрел на свою любимую дочь, которая заменила ему все радости жизни, которые он на мгновение потерял из-за смерти жены при родах. Большие, теплые руки подхватили, подняли на ноги.
– Ничего, сокровище мое, – голос был спокоен и полон скрытой улыбки. – Ничего, это теперь наша с тобой тайна. Самая дорогая трещина во всем мире. Ты ее сделала, значит, она особенная.
Отец не отругал, просто позвал мастера, который аккуратно заполнил скол прозрачной смолой, и с тех пор только они вдвоем знали, где он находится. Тайна, сокровище.
Теперь же это была просто щель, которую его дочь обязана была каждый день оттирать от грязи.
Возвращение в реальность всегда приходило не через плавный переход, а болезненным толчком. Громкий, развязный смех из-за двери внезапно стал ближе – кто-то вышел в холл. Ариэль съежилась, вжалась в себя, стараясь стать еще меньше, еще незаметнее, сердце заколотилось где-то в горле, глухо и часто, точно птица в клетке. «Призрак, – судорожно пронеслось в сознании. Я призрак. Призраков не замечают. Призраки не существуют».
Тени удалились в сторону бильярдной. Лишь тогда она выдохнула и заметила, как вцепилась в тряпку до побелевших суставов, пришлось с усилием разжать пальцы, заставить себя вывести еще один круг по мрамору. Легкое движение на периферии зрения заставило вновь застыть: не шелохнуться и не поднять головы.
Он пришел – тюремщик.
Ари всегда сперва чувствовала его, только потом видела: в воздухе что-то менялось, сгущалось, наполнялось напряженной, почти стерильной чистотой. Появлялся всегда беззвучно, исчезал так же – тень, отбрасываемая не солнцем, а самой тьмой этого дома. Краем глаза заметила безупречные черные туфли, лишенные даже намека на пыль, идеальные стрелки на брюках из тонкой шерсти, руки, скрещенные на мощной груди. Габриэль Моро: страж, надзиратель, один из солдат её дяди. Он никогда не прислонялся к стенам, не переминался с ноги на ногу, не отвлекался, был воплощением безразличной, абсолютной дисциплины. Часовым, вмурованным в стены этой тюрьмы, когда-то бывшей для Ариэль домом.
Взгляд, тяжелый и всевидящий, скользил по периметру холла, выискивая угрозы, вычисляя риски. А она была просто частью обстановки, которую ему поручили охранять, ожившим предметом мебели. Порой казалось, что если она внезапно исчезнет, Гейб даже не моргнет – просто отметит во внутреннем отчете: «Предмет более не на месте». По спине побежали мурашки – не от страха, а от щемящего осознания абсолютного одиночества, пронзившего до самой глубины души. Он стоял в двух шагах, достаточно близко, чтобы обмануться ожиданием тепла, но от него веяло лишь космическим холодом. Между ними лежала бездонная пропасть: он был стражем этой Преисподней, а она самой растоптанной душой.
Главная дверь холла распахнулась и вошёл он. Вито Скарано.
Дядя не заполнял собой пространство, а словно поглощал его: свет, воздух, звуки и всеобщее внимание. Всё вокруг сжималось до одной точки – до Вито. В своём элегантном костюме с иголочки, он казался римским императором, который сошёл с пьедестала, чтобы лично покарать нерадивого гладиатора. Одежда, сшитая на заказ в Милане сидела безупречно, подчёркивая широкие плечи и узкую талию, в руке замерла хрустальная рюмка с каким-то тёмным алкоголем, волосы с проседью у висков были уложены идеально. Медленной, властной походкой дядя приблизился к племяннице – каждый шаг в начищенных туфлях отдавался в костях глухим стуком. Когда он наконец приблизился, Ари замерла, превратившись в каменную статую самой себя. Тяжелый взгляд, полный насмешливого любопытства прожигал кожу. Вито Скарано, остановившись в полуметре, чтобы мыльный раствор не брызнул в его сторону, молчал и наслаждался моментом. Страхом, который висел густым, почти осязаемым облаком.
– Ну что, Моро, – голос прозвучал бархатно, обволакивающе, словно ядовитый дым. Обращался не к ней. Почти никогда к ней. – Наше маленькое привидение сегодня усердно трудится. Пол прямо-таки сияет, не находишь?
Ариэль не видела реакции Гейба, не слышала ничего. Только этот голос, вползающий в уши, в мозг.
– Надо будет поручить ей оттереть и мои туфли, – продолжил Вито задумчиво, словно размышляя вслух. – Думаешь, справится? Должна справиться. У нее, я слышал, талант к грязной работе.
Сделал еще шаг. Кончик левой туфли оказался в сантиметре от пальцев, покрасневших от воды. Можно было разглядеть каждую деталь кожицы на носке, тончайшую прошивку подошвы. От штанины пахло дорогим парфюмом, табаком и узурпированной властью.
Затем Вито присел на корточки – небрежно, как человек, рассматривающий букашку – и его лицо оказалось на одном уровне с лицом Ариэль. Та упрямо смотрела в пол, чувствуя, себя самой ничтожной сущностью во всём мире.
– Твой отец, – произнес тихо, почти ласково, от чего внутри всё сжалось в ледяной комок, – твой отец обожал этот пол, говорил, он словно изо льда. Холодный и совершенный. Таким он ему и нравился. А теперь посмотри… – сделал паузу, давая впитать каждое слово. – Теперь он еще и чистый. До блеска, как слеза. Надеюсь, ты это ценишь, Ариэль. Надеюсь, понимаешь, какую честь оказываю, позволяя хранить память о нем в такой… безупречной чистоте.
Слова были хуже любого удара, входили глубоко внутрь, разрывая на куски всё, что еще оставалось живого. Он не просто издевался – осквернял. Брал самые сокровенные, самые болезненные воспоминания и плевал на них, вытирая об них ноги. И заставлял её участвовать в этом кощунстве.
Выпрямился, отхлебнул из рюмки и, не глядя, бросил через плечо:
– Не забудь про трещину у восточной стены, туда, кажется, накапало воска. Будь добра.
И пошел прочь, шаги затихли в коридоре. Но ядовитый след присутствия висел в воздухе еще долго.
Ариэль сидела на коленях, не в силах пошевелиться. Внутри всё дрожало мелкой, предательской дрожью. Унижение было физическим – жгло лицо, сковывало горло тугим комом. Хотелось закричать, завыть, изодрать проклятую тряпку в клочья и швырнуть ему вслед. Но вместо этого просто сидела, опустошенная и выпотрошенная, пока волны стыда и ярости бились о стены самообладания.
Заставила себя двинуться и механически, словно заведенная кукла, поползла к указанной стене. Да, там было пятно от свечи. Принялась тереть его, вкладывая в движение всю накопившуюся ненависть, всю бессильную злобу. И всё это время чувствовала на себе взгляд, тяжелый, неотрывный, лишенный всяких эмоций. Взгляд тюремщика. Гейба. Украдкой, почти не двигая головой, скосила глаза в его сторону. Он стоял всё там же – та же поза, то же каменное, непроницаемое лицо. Ни тени сочувствия, ни искорки понимания. Ничего, просто наблюдал, фиксировал, оценивал уровень угрозы. Ее унижение было лишь частью рабочего процесса, деталью обстановки.
Внезапно Ари охватило острое, почти физическое желание встретиться с ним глазами. Увидеть хоть что-то – злость, презрение, любопытство. Что угодно, лишь бы не эту пустоту. Медленно, преодолевая себя, подняла голову и посмотрела прямо на него. Темные, почти черные глаза, встретились с ее взглядом. Всего на секунду, даже меньше чем на секунду. В них не было ничего. Ни-че-го. Просто тьма. Глухая, бездонная тьма, в которой тонуло всё. Он тут же отвел взгляд, снова уставившись в пространство где-то над ее головой. Инцидент исчерпан, угрозы нет.
Ариэль опустила глаза и пальцы, закоченевшие от холода, разжались. Тряпка с тихим шлепком упала в мутную воду. Смотрела на свои руки – распухшие, покрасневшие от ледяной воды, с облупившимся лаком и коротко остриженными ногтями – маникюр был роскошью для служанки. Теперь у неё были руки, которые больше не умели играть на рояле, руки, которые знали только запах хлорки и шершавость грубой ткани.
«Он называет меня призраком, – пронеслось с горькой, разъедающей изнутри иронией. – Но призраки свободны. Они носятся по сквознякам в старых домах и пугают жильцов. А я… – Медленно сжала ладонь, ощущая, как влажная кожа липнет к коже, – Я не призрак. Я – грязь. Я – пыль, которую не замели после очередной чистки. Я то, что остается, когда всё важное и значительное уже убрано с глаз долой».
И в тишине огромного, враждебного дома, под безжалостным взглядом сторожа, Ариэль Коста, дочь павшего дона, тихо, беззвучно согласилась с этим. Пока что.
Тишина в холле была обманчивой – не пустотой, а густым коктейлем звуков, которые требовалось постоянно дешифровать. Гул системы климат-контроля, обрывки разговоров, доносившиеся из-за дверей, отдаленные шаги по мрамору верхнего этажа. Габриэль Моро стоял неподвижно, вобрав в себя все эти шумы и пропуская их через внутренний фильтр угроз. Ладонь лежала на гладкой поверхности дубовой панели, улавливая под кожей едва заметную вибрацию жизни особняка. Правая рука, полусогнутая в локте, привычно касалась сквозь тонкую ткань рубашки холодного металла кобуры. Вес оружия служил постоянным, успокаивающим напоминанием: это – реальность. Всё остальное – лишь декорации.
Взгляд, лишенный всякой любознательности, методично сканировал пространство. Паркет – блестит, никаких следов грязи, способных указать на несанкционированное проникновение. Окна – занавешены тяжелым бархатом, идеальная защита от снайперского прицела. Двери – закрыты. Обстановка стабильна. Сознание, отточенное годами выживания на улицах, работало как радар, выискивая малейшие аномалии. И она была здесь. Аномалия. Девушка на коленях: Ариэль Коста, объект наблюдения, потенциальная угроза номер один его собственному выживанию.
Видел не её – лишь контур, движение, потенциал к нарушению порядка. Сгорбленные плечи, напряженная спина, ритмичные, почти механические движения руки с тряпкой. Отмечал про себя: темп работы замедлился на семь процентов по сравнению с вчерашним утром. Признак усталости или нарастающей апатии? Апатия могла смениться отчаянием. Отчаяние – импульсивным, нерациональным поступком. Мысленно внес пометку: требуется усиление бдительности в периоды пиковой усталости объекта.
Его не интересовала её боль. Боль была данностью, константой, подобно погоде или времени суток. Регистрировал внешние проявления, как фиксировал бы показания датчика. Дрожь в пальцах при выжимании тряпки – температура воды слишком низкая, что могло привести к снижению моторных функций. Неэффективно. Но не его дело было указывать на это. Его дело – наблюдать.
Стабильность, контроль, порядок. Ничего лишнего, никаких эмоций. Эмоции – брешь в броне. Брешь, в которую входит клинок. Клинок означает смерть. Смерть – поражение. А он не хотел проигрывать, не хотел возвращаться к своей старой жизни.
Шаги в коридоре – тяжелые, уверенные. Гейб не повернул головы, узнав эту походку за несколько секунд до того, как в дверном проеме возникла фигура другого охранника, Марчелло. Его смена подходила к концу.
– Всё чисто, – прозвучал голос, лишенный тембра, ровный, как гудение трансформатора. Он не делал акцента на словах. Это был отчет, а не общение.
Мужчина с обвисшим от джина животом и вечно потеющим затылком, лениво кивнул. Его глаза блуждали по комнате, задерживаясь на согнутой спине Ариэль с неприкрытым, тупым любопытством.
– Ничего нового, Габриэль. Скарано в кабинете. Объект, – мотнул головой в сторону девушки, – его племянница, как я вижу, на месте. Скукотища смертная.
Гейб пропустил это замечание мимо ушей, продолжая анализировать напарника: взгляд слегка затуманен, правая рука непроизвольно потирает подушечки пальцев – вероятно, похмелье или ночная игра в карты. Кобура отстегнута, хотя правилами предписано застегивать её при передвижении по внутренним помещениям. Слабость. Недисциплинированность. Марчелло представлял угрозу не потому, что был зол, а потому, что оставался глуп и небрежен. Глупость заразительна. Она притягивает проблемы.
Молча указал взглядом на расстегнутую кобуру. Марчелло сонно хмыкнул, но защелкнул её.
– Расслабься, парень. Кто тут у нас побежит?
«Каждый, у кого есть для этого причина», – промелькнула мысль, оставшаяся безмолвной. Бессмысленно. Просто кивнул и направился прочь, ступая бесшумно, несмотря на твердую подошву туфель. Двигался легко, экономично, рационально расходуя энергию, как учили. Никаких лишних движений. Каждое действие должно иметь цель.
Путь лежал через кухню – самый короткий маршрут к кабинету Вито для ежевечернего рапорта. Воздух здесь густел, насыщенный ароматами чеснока, трав и жареного мяса. Избыток запахов. Гейб всегда на мгновение задерживал дыхание, прежде чем привыкнуть. Излишество было так же опасно, как и недостаток. Оно размягчало, расслабляло.
Повар, дородный синьор Лука, яростно помешивал что-то в медном тазу, громко ругаясь. Схватил со стола поднос с подгоревшими по краям кусками мяса, смахнул их в большую металлическую урну для мусора и вернулся к плите, ворча себе под нос о расточительности глупых помощников.
Гейб замер, взгляд прилип к блестящему борту мусорного бака, к этим идеально хорошим, всего лишь чуть зачерствевшим кускам жаркого. И мир на секунду дрогнул.
Холод. Пронизывающий холод влажного миланского вечера. Семилетний мальчик засовывает почти окоченевшие пальцы в железный бак позади ресторана. Запах гнили, кислой капусты и чего-то сладкого, отчего тошнит. Рука нащупывает что-то твердое, жилистое – корку хлеба, прилипшую к кости. Победа. Спасительный ужин. И тут – тени. Старшие мальчишки. Их трое. Ухмылки, как у голодных крыс. «Эй, щенок, что это у тебя там?» Отбор. Быстрый, безжалостный удар в живот, от которого перехватывает дыхание. Корка выскальзывает из пальцев. Смех. И тишина, когда они уходят, жуя его ужин. Лежит на холодном камне, и боль в животе – ничто по сравнению с ледяным, абсолютным пониманием: ты никто. Твоя еда – не твоя еда. Твоя жизнь – не твоя жизнь. Есть только сила. И те, кто её применяет.
Воспоминание ударило с такой яркостью, что физически кольнуло в виске. Оно было не картинкой, а полным погружением: тот самый холод, тот самый голод, сосущий под ложечкой, тот самый вкус крови на губе от прикушенной изнутри щеки. Моргнул и вернулся в настоящее, в теплую, пахнущую едой кухню. На лице не дрогнул ни один мускул. Рука не потянулась к животу. Просто сделал мысленную пометку: «Повар Лука. Расточителен. Неэффективен. Возможность извлечения дополнительных ресурсов в случае необходимости». Прошлое было не травмой, а базой данных. Опытом, выученным наизусть. Улица не научила ненавидеть или бояться; она научила алгоритмам. Голод -> поиск еды -> устранение угроз -> потребление. Всё просто. Двинулся дальше, к кабинету Вито.
Дверь в кабинет, массивная и темная, поглощала свет. Гейб постучал ровно два раза.
– Войди, – донеслось изнутри.
Кабинет Вито Скарано представлялся не символом роскоши, а сложным тактическим полигоном. Взгляд выхватывал не антикварную мебель, а потенциальные укрытия; не дорогие картины, а мертвые зоны, где мог укрыться убийца; не панорамное окно, а гигантскую уязвимость, прикрытую пуленепробиваемыми стеклами и шторами. Вито восседал за массивным столом, словно за командным пунктом, доминирующим над всей местностью. Сам хозяин кабинета оставался самой сложной и опасной частью этого полигона, не смотрел на вошедшего, изучая какую-то бумагу. Это тоже был расчет – демонстрация пренебрежения, проверка на терпение.
Гейб замер в нескольких шагах от стола, приняв нейтральную, собранную позу. Руки вдоль тела, взгляд устремлен в точку на стене позади Вито. Не ерзал, не переминался с ноги на ногу. Просто ждал. Минуту. Две.
Наконец Вито отложил бумагу. Глаза, холодные и всевидящие, словно у хищной птицы, поднялись на Гейба. Улыбка отсутствовала.
– Ну что, Моро? Как наш дорогой призрак? Как это отродье моего сводного братца? Не пыталась раствориться в стенах?
– Нет, синьор, – последовал немедленный ответ. – Режим соблюдается, отклонений в поведении нет.
– Отклоне-е-е-ний, – растянул слово Вито, наслаждаясь его вкусом. – Интересное слово. А что есть её нормальное поведение, как ты думаешь? Унижение? Покорность? Молчаливая ненависть?
Поднялся и медленно прошелся вокруг стола, приближаясь. Гейб не отводил взгляда, но всё существо сфокусировалось на фигуре босса, отслеживая каждый микрожест.
– Знаешь, почему она ещё жива, Моро? – Вито остановился так близко, что можно было ощутить запах дорогого парфюма, смешанный с ароматом сигары. – Не из сентиментальности. Не потому, что у меня мягкое сердце. Она – живое напоминание. Объявление о кончине рода Коста. Её унижение – мой герб на этих стенах. Понимаешь? Это не человек. Это – сообщение.
Гейб кивнул и замер, пока босс изучающе всматривался в него, выискивая малейшую трещину в броне. Не найдя ни одной, продолжил, и голос стал тише, но от этого лишь опаснее, подобно змеиному шипению.
– Твоя задача – следить, чтобы этот герб не стёрся и не потускнел. Она – твоя единственная обязанность. Миссия. Если сбежит… – сделал паузу, давая словам обрести нужный вес, – умрёшь. Очень медленно. И прикажу Марчелло покрасить её комнату твоей кровью. А если провинится… будешь стоять и смотреть как её наказывают. Без эмоций, без вмешательства, понял? Ты – мои глаза. Мой замок на её клетке.
Гейб слушал отрешенно, словно инструкцию по разминированию бомбы. Каждое слово было проводком, который нельзя перерезать. Угроза смерти не являлась новостью – смерть была постоянным спутником. Куда важнее оказалось предложенное уравнение: сделка.
– В твоей личной войне за выживание, солдат, – произнес Вито, словно читая мысли, – это самый лёгкий путь. Даю тебе крышу, еду и власть над той, что была здесь принцессой. Всё, что требуется – быть эффективным. Не забывай, кто подобрал тебя с улицы. Вопросы?
Вопросов не возникало. Всё виделось кристально ясным. Это был контракт: тело и абсолютное послушание в обмен на ресурсы и защиту. Чистая математика. Улица сулила голод и холод, Вито Скарано предлагал крышу и еду. Эмоции – жалость, стыд, возмущение – становились в этом уравнении лишними переменными, лишь усложняющими вычисления. Он был инструментом, а они не испытывают чувств. Они выполняют определённую функцию.
– Вопросов нет, синьор, – прозвучало ровным, бесстрастным голосом.
Вито смотрел ещё несколько секунд, и в глазах холодное, научное любопытство. Затем кивнул и отмахнулся, отпуская.
– Иди. И помни: эффективность.
Гейб развернулся на каблуках и вышел, закрыв за собой дверь без единого звука. Не пошел на кухню, хотя для охраны и прислуги стол был накрыт ещё час назад, а вернулся в холл – на свой пост, свою зону ответственности. Марчелло уже ушел. В холле никого не осталось, кроме неё. Теперь это была не просто «аномалия» или «объект», а его миссия. Его смертный приговор, ходящий на двух ногах. Занял привычную позицию, вобрав в себя пространство и принялся вновь наблюдать за ней – теперь анализ стал еще более пристальным. Каждый вздох, каждое движение плеч, малейшее изменение ритма дыхания – всё превращалось в данные. Видел, как замирала на мгновение, уставясь в воду в ведре, и плечи слегка вздрагивали. Не от холода. От чего-то другого. Отчаяния? Ненависти? Плача?
Раньше просто фиксировал подобное, теперь предстояло предугадывать. Если это отчаяние – оно могло привести к попытке суицида. Самоубийство тоже считалось побегом. Значит, нужно убрать из её комнаты всё, что можно использовать как орудие. Если ненависть – она могла вылиться в атаку на кого-то из людей Вито. Это тоже вело к наказанию. Значит, следовало быть готовым нейтрализовать её прежде, чем она совершит необратимое. Девушка потерла ладонью щеку, оставив мокрый след. Зарегистрировал: возможно, слеза. Признак эмоциональной нестабильности, а значит и повышение уровня угрозы.
Не чувствовал к ней ничего, кроме гипербдительности. Она являлась самым важным и самым опасным элементом в уравнении выживания. Её боль, её унижение были не трагедией, а переменными, способными нарушить хрупкий баланс и привести к гибели.
«Выживание – это не победа, – пронеслось в голове стальной, выверенной формулой. Это отсутствие поражения. Она – моё поражение. Не допущу этого, буду эффективен».
И продолжил наблюдать. Молча, неподвижно. Как идеальный инструмент.
Серебряный поднос в её руках казался тяжёлым, холодным и почти живым – вибрировал в такт едва уловимой дрожи, отзывался глухим гулом на каждый удар сердца, затаившегося где-то в горле. Ариэль стояла у стены, встроенная в интерьер, словно ещё одна деталь убранства: безмолвная, неподвижная, декоративная. Сегодняшняя миссия заключалась в том, чтобы быть живой раздатчицей напитков и немым напоминанием. Ваза с цветами, только более полезная.
Особняк затаил дыхание. В большом кабинете отца – теперь кабинете Вито – собрались те, кто решал судьбы города. Капитаны. Волки, пришедшие на зов нового вожака. Воздух сгустился от запаха дорогой кожи кресел, выдержанного виски и мужского пота, смешанного с едва уловимым, сладковатым страхом. Они боялись Вито. Все эти предатели отца боялись. И это единственное согревало изнутри ледяным, злорадным огоньком.
Платье – грубый, серый холщовый мешок – резало подмышки, казалось вопиющим пятном на фоне дорогих костюмов и галстуков. Вито настоял на этом. Контраст должен был быть максимальным, чтобы каждый, кто смотрел на неё, испытывал не жалость, а животный, первобытный ужас перед бездной, в которую можно пасть, потеряв власть.
Гейб стоял у двери в своей привычной позе часового. Взгляд, тяжёлый и безразличный, скользил по собравшимся, время от времени останавливаясь на ней, чтобы зафиксировать: объект на месте, угрозы нет. Был частью этой системы устрашения. Его каменное лицо – таким же элементом декора, как чучело медведя в углу.
Вито восседал за массивным дубовым столом, который когда-то принадлежал её отцу. Не сидел – развалился в кресле, демонстрируя расслабленную, почти похабную власть. В руках вертелся хрустальный стакан.
– Итак, друзья мои, – начал он, и бархатный голос мгновенно перерезал тихий гул. – Наши друзья из Калабрии выразили некоторое… беспокойство по поводу новых морских маршрутов, считают, что заходим на их территорию.