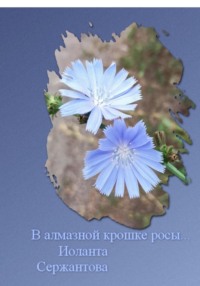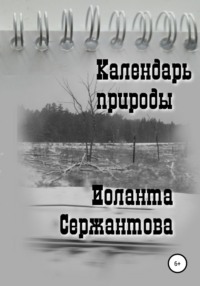Полная версия
Под грифом юности
А ведь всё начинается с малого…
– Я ненавижу кашу! Гадость!
– Столько эмоций из-за какой-то каши?
– Не из-за какой-то, а из-за манной! Она пристаёт к зубам, она скользкая и… и ещё там пенка! Она шевелится на языке! Как живая!
– Ну, вот видишь, каша обижается и тоже пытается от тебя сбежать.
– Ты …ты меня не любишь!
– С чего это?
– Если бы любила, не варила бы!
– Так… Интересно… Ну и чем, по-твоему, я должна тебя кормить на завтрак, чтобы доказать своё хорошее отношение?
– Картошкой жареной с куриной ножкой, пирожками с мясом, котлетами и пирожным! Да чем угодно, только не кашей. – кричит с очевидной обидой дочь.
Чтобы не дать разгореться скандалу я вздыхаю и разрешаю ей встать из-за стола:
– Хорошо, сегодня можешь не есть, а с завтрашнего дня завтракай, чем тебе угодно. Жарь картошку, курицу и пирожки, только, пожалуйста, готовь всё сама.
– Так мне же в школу! И уроки ещё, и музыкашка. Мне что, не спать, по-твоему?
– А мне? Мне, знаешь, на завод ещё добираться. Это у тебя школа через дорогу, а мне до работы на двух трамваях.
– Не к чему посвящать ребёнка в свои проблемы, лишая его детства! – возмутится некто моей бессердечности, из-за чего придётся, напялив на себя личину зануды и ментора, бубнить очевидное, про то, что детство очень быстро заканчивается, если жить бок о бок с измотанной матерью, по любому поводу переходящую со зловещего шёпота на крик.
Детство – это свобода. Вспоминая о нём, мы тоскуем, прежде всего, об оставленной там безмятежности и чувстве свободы от страха конечности, от понимания бренности, что с годами ощущается всё явственнее.
В детстве мы нежимся на песчаном берегу океана вечности под защитой молодых, полных сил родителей; крепких, умелых, разбирающихся во всём на свете дедов и при живой ещё прабабушке с маминой стороны.
А каша… картошка… Какая, в общем, разница. Это так просто – первый приём пищи за день. Завтрак. Ничего не значащий эпизод.
Ну и стоит ли оно того – тратить жизнь на ненависть к чему бы то ни было, всё равно, к чему…
Дождь
– Хорошо спится в дождь, не правда ли?
– Да, если не думать о том, что кто-то там в темноте наверняка и промок, и продрог.
Шторы пузырились на коленях сквозняка…
После целого дня, когда ветер выжимал досуха над землёй облака, сумерки вздыхали туманом тяжело и влажно. И этот туман был непохож на обыкновенный утренний, безмятежный и лёгкий, в кисею которого кутается поджидая зарю река. Грузный, он сбивал и дыхание, и шаг, и даже с толку. Где подевался тот, по-настоящему летний, размывший границы, умывший дали, притянувший их за шеи игриво, дабы взглянуть в глаза и чмокнуть в нос…
Гриб-дождевик, слишком скоро переросший собственную юношескую бледность, сдюжил, дотянул-таки до рассвета, дотерпел, дабы чихнуть – тихо, но зримо округе, так что вздрогнул рядом куст одуванчика, пробудился ото сна, и согбенный недавним ливнем, распрямился пружиной, разворошив подле траву. И тут же разлетелись на стороны бронзовые веснушки гриба, припудрили тем ржавым веселием щёки солнцу и всего мокрого до исподнего шмеля, раскинувшего крылья на просушку неподалёку.
Молодая сосна – посудным ёршиком или пуховкой для пыли вытянулась единственной своей веточкой посреди тропинки. Ещё недавно хоженая, недолго пережидала она, как начала зарастать. Вздохнула с облегчением земля, сжатые сурово губы разъехались в улыбку сами собой, и почувствовала себя трава, размяла затёкшие пальчики корешков. Сперва ощетинилась колкими тонкими травинками, а как те сделались повыше, посговорчивее, там уж пришёл черёд и древесной поросли. С одной стороны взошёл дубок, с другой клёнышек, а тут вот, прямо на самом виду – сосенка.
– Долго ли им до того как придавят к земле колесом, либо шагом?
– Так это как жизнь обставит. А то до первого пала, дорога-то к реке. Всё может быть.
Шторы пузырились на коленях сквозняка…
По-настоящему…
За что воевали наши деды? Чтобы у детей было время распробовать жизнь, чтобы, заслышав гул самолёта в небе, внуки не искали, где укрыться, а следили за полётом железной птицы и сами мечтали полетать.
За что ещё воевали наши деды? Чтобы не было больше на свете никогда обугленных сосен и седых, припорошённых пеплом полян. Чтобы, поросшие одуванчиками, все они казались, ровно яичные желтки и манили к себе детвору нарвать тех солнечных цветов, и бежать скорее к своим мамам, и вместе с ними нести эти простые цветы к могилам павших в знак благодарности. Им, павшим, много не надо. Просто – чтобы помнили. И больше ничего…
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.