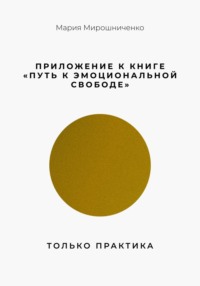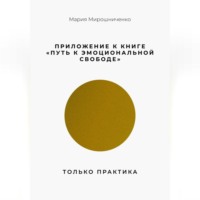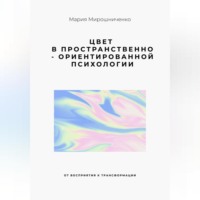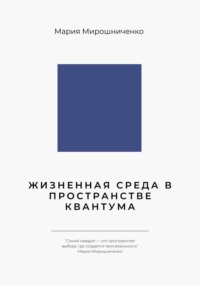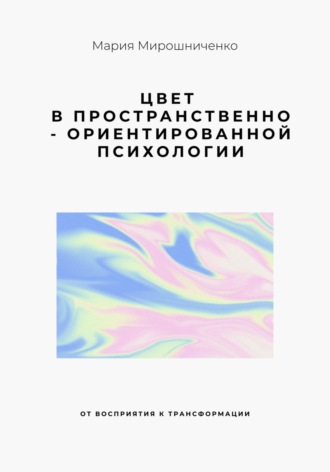
Полная версия
Цвет в Пространственно-ориентированной психологии (от восприятия к трансформации)
Эти примеры подчеркивают, насколько культурно обусловлено значение цвета, один и тот же красный может быть цветом праздника в Пекине, революции в Москве и брачного союза в Дели, а белый, цветом невинности на европейской свадьбе, но символом смерти, на азиатских похоронах.
При всех различиях можно заметить и сходства в обрядах, в частности, золото или желтый часто означает священное начало (солнечный божественный свет) во многих регионах, черный – контакт с потусторонним (ночь, духи, траур) и потому используется в магических или погребальных ритуалах, а сочетание красного с белым нередко отражает баланс жизни и чистоты, например, в японских синтоистских обрядах, где красно-белые ленточки симэнава ограждают святые пространства. Таким образом, цвет в обряде, это своего рода язык, в котором через сочетание оттенков люди выражали надежды, страхи и ценности. Изучение этого языка, задача этнографии и культурологии, и в каждом регионе исследователи находят целые системы цветовой символики, укорененной в фольклоре.
Цвет и фольклор. Мифы, символы и народные поверьяЦвета играют значимую роль в народном фольклоре, сказках, песнях, пословицах и мифах, которые отражают образ мышления и ценности народа. Через цветовые образы и эпитеты народная поэзия передает важные этические и эмоциональные послания. Так, в русском языке закрепились выражения «белый свет» – как обозначение мира в целом (буквально «белый свет» значит просто «светлый, ясный мир»), и «на белом свете жить», значит жить радостно и открыто.
В старинных былинах к князю Владимиру обращались как к «красно солнышко», где «красно» означало и красивый, и красный цвет солнечного диска – эпитет, соединяющий эстетическое и цветовое восхваление правителя. Девушек в народных сказках называли «красна девица», то есть прекрасная, сравнимая с ярким румянцем или расцветом. Эти примеры показывают позитивную коннотацию красного и белого цветов в славянском фольклоре: красный – красивый, веселый, белый – чистый, ясный. Напротив, черный цвет в сказках и песнях часто связан с нечистой силой или горем: фигурируют черный ворон, черный маг, «черная тоска».
Интересно, что черный в фольклоре может быть и грозно-величественным: черные вороны на поле брани в былинах, как вестники смерти, но и хранители памяти о павших героях. Зеленый цвет ассоциируется с лесом, молодостью, вспомним русскую песню «Во поле береза стояла» – береза зелена, как символ девичества и весны. Синий и голубой в народных песнях, это цвета тоски и печали, например «Выйду на улицу – солнца нема, только макушка видна у дымка голубого» образ тихой грусти. Украинская народная песня «Ой, не красивая та дивчина, что не любить мене» содержит строчки про синюю квитку (синий цветок) символ несбывшейся надежды. Таким образом, в фольклоре постепенно закрепились стереотипные связи цветов с эмоциями: светлое, красное – добро и красота; темное, синее – грусть или зло.
Эти связи во многом соответствуют упомянутой ранее универсальной бинарности «свет и тьма», но есть и уникальные культурные нюансы. Помимо языковых формул, цвет присутствует и в народных поверьях. В поверьях многих народов мира красный цвет наделен защитной, оберегающей силой. Например, у славян была распространена традиция завязывать красную ленту на запястье ребенка или на скотину от сглаза, от дурного взгляда завистника. Считалось, что красная нить отвлекает и нейтрализует негативную энергию. Похожие обычаи есть у народов Балкан, в еврейской каббалистической практике (красная нить на запястье от сглаза), и даже у современных знаменитостей можно заметить такие браслеты, как эхо древнего фольклорного обряда.
Белый цвет часто выступает в фольклоре как символ благостного света (например, белая магия противостоит черной магии), а зеленый может иметь двойственный характер, с одной стороны, это юность, надежда (недаром в сказках герой выходит в чисто поле зеленое искать судьбу), с другой, в некоторых европейских поверьях зеленый цвет связывали с миром фей и духов и даже избегали носить на свадьбах, чтобы не разгневать потусторонние силы. Во многих культурах считается опасным указывать на радугу пальцем, видимо, потому что радуга (совокупность всех цветов) воспринималась как нечто священное, небесный мост между мирами. Эти верования демонстрируют, как цвет и фольклор неразрывно связаны, через цвет человек осмыслял мир, наделяя краски глубокими метафизическими значениями. Кроме того, фольклор породил устойчивые цветовые символы, которые затем вошли в литературу и массовую культуру. Понятия вроде «синяя борода» (символ злодея-колдуна из сказки Ш. Перро), «Аленький цветочек» (алый цветок как чудесный дар в одноименной сказке Аксакова) все это легло в основу архетипов.
По мере развития цивилизации цветовые метафоры перешли и в науку о психике, так, в психологии эмоций грустью управляет «синий цвет» (английское выражение «feeling blue» – хандрить), а сильная ярость называется «белым гневом» или «красной яростью» в разных языках. Фольклорный «красный петух», обозначающий пожар, до сих пор понятен носителям языка. Таким образом, народное творчество закладывает фундамент для символики цвета, которая со временем видоизменяется, но не утрачивается, многие современные выражения и образы имеют корни в древних цветовых архетипах.
В прошлом столетии, с развитием глобальных коммуникаций, рекламы, поп-арта и кинематографа, символика цвета получила новое звучание. Массовая культура стала не только наследовать традиционные цветовые коды, но и сознательно их переосмысливать, создавать новые ассоциации, часто меркантильные или идеологические.
Один из ярких примеров, цвет и политика в XX веке. В ходе революций и мировых войн цветовые символы обретали массовую узнаваемость. В частности, в России красный цвет с приходом большевиков приобрел принципиально новое значение, с древнего красивого, светлого он трансформировался в цвет коммунистической революции. После 1917 года красный флаг стал государственным символом Советского Союза, красная звезда, эмблемой армии, а само слово «красный» прочно связалось с идеологией пролетариата. В советской мифологии красный понимался как цвет пролитой крови рабочих, борющихся против угнетения, отсюда пафос революционных песен и лозунгов про «алый стяг».
Практически с детского сада гражданин СССР погружался в эту символику, детская организация пионеров повязывала каждому школьнику красный галстук как знак принадлежности к идеалам коммунизма. Одновременно противостоящий лагерь, Белое движение, раскрасил вражеский для большевиков образ в белый цвет. Недаром во время Гражданской войны 1918–1920 гг. сражались Красная армия и Белая армия, а после победы красных слово «белогвардеец» стало синонимом контрреволюционера.
Даже спустя десятилетия негативная коннотация слова «белый» в политическом смысле оставалась в советском употреблении: «белая эмиграция», «белополяки» и т. д., где белый = враждебный старому режиму. Так вековые культурные значения перевернулись, красный – ранее красивый и добрый – стал агрессивно-идеологическим, а белый – ранее чистый – превратился в образ врага.
Политические и социальные движения конца XX – начала XXI века также привязали к себе цвета. В новейшей истории мы видим целую череду «цветных революций», названных по цвету символики протеста: «бархатная» (условно розово-пастельная) революция в Чехословакии, Оранжевая революция на Украине (2004), где оранжевый платок или ленточка стали маркером проевропейски настроенных демонстрантов, «Революция роз» в Грузии и т. д. Цвет выступает как удобный маркер идентичности в медийную эпоху.
Массовая культура, через парады, медиа и моду, закрепляет новую трактовку цвета, которая уже оторвалась от фольклорных корней и имеет вполне современный смысл. Коммерческая поп-культура тоже активно эксплуатирует и переосмысливает цвета. Маркетинг и бренд-дизайн опираются на универсальные психологические реакции, так, банки и айти-компании любят синий и зеленый цвета в логотипах, стремясь внушить доверие и чувство надежности.
Яркие красно-оранжевые логотипы, как отмечалось, призваны вызвать аппетит и импульсивность покупателя. Фиолетовый цвет ряд брендов используют для создания ощущения роскоши и таинственности. При выходе на мировые рынки, компании учитывают и локальные различия восприятия. Например, автомобильная реклама с образом «чёрной овцы» успешно выиграла во Франции на идее индивидуалиста (белое стадо и одна черная овца как особенная), но в ряде культур черная овца это изгой, негатив. В маркетинге есть и примеры конструирования новых цветовых ассоциаций, достаточно переименовать краску цвета «грязно-белый» в поэтичный «древний шелк», и продажи возрастают и меняется и отношение покупателя к цвету.
Поп-культура сегодня формирует целые тренды, скажем, гендерное кодирование цветов, сегодня всем понятно, что розовый для девочек, голубой для мальчиков, хотя еще век назад на Западе встречались противоположные нормы, когда в начале XX века в США советовали одевать мальчиков в розовое как мужественный оттенок, а девочек в нежно-голубое). Но массовая мода, фильмы и игрушечные компании в послевоенные годы закрепили нынешнюю норму, и теперь розовый прочно связывается с женственностью, а голубой – с мужественностью.
Кинематограф и визуальное искусство XX–XXI века подняли язык цвета на новый уровень, делая его частью повествования. Режиссеры используют определенные палитры, чтобы на подсознательном уровне влиять на восприятие сцены зрителем. Например, в культовом фильме «Матрица» (1999) сцены внутри искусственной виртуальной реальности выдержаны в холодных зеленоватых тонах, создавая ощущение цифровой неестественности, тогда как реальный мир показан в более теплых, естественных красках.
В фильме «Шестое чувство» (1999) режиссер М. Найт Шьямалан ввел красный цвет как маркер присутствия чего-то потустороннего и каждый раз, когда в кадре появляется красный предмет, это намек на близость сверхъестественного. Подобные художественные приемы затем становятся достоянием поп-культуры, зрители обмениваются в социальных сетях списками, что означает каждый цвет в таком-то сериале.
Комиксы и поп-арт тоже внесли вклад, так художник Энди Уорхол прославился тем, что переосмысливал знакомые образы через неестественно яркие цвета, трансформируя восприятие. В итоге современный человек уже тонко чувствует кодировку цвета, герой, одетый в черное кожаное пальто, воспринимается как крутой или опасный, эстетика, идущая от субкультур рокеров и фильмов типа «Матрица», неоново-розовый цвет сразу навеет ретро-ностальгию по эстетике 1980-х, а ярко-оранжевый балахон в США ассоциируется либо с заключенным тюрьмы, либо с модным уличным стилем, в зависимости от контекста.
Стоит подчеркнуть, что массовая культура часто играет на контрасте старой символики и новой. Например, черный цвет в европейской традиции, траурный и мрачный, в XX веке стал цветом высокой моды и элегантности. Белый цвет, символ чистоты, в современных фильмах ужасов порой нарочно используется в сценах кошмара, именно чтобы перевернуть ожидания.
Поп-культура любит иронию цвета, скажем, супергерой Дэдпул носит красный костюм как пародию на типичных благородных героев, хотя является антигероем. Или рассмотрим музыку, движение панков выбрало в качестве символа ядовито-зеленый и розовый, цвета протеста против скучных буржуазных оттенков. А готы усвоили черно-красную гамму, превратив траур в стиль жизни.
Таким образом, в XXI веке мы наблюдаем интересный феномен, пластичность цветовых символов. С одной стороны, многие архетипические восприятия по-прежнему с нами и продолжают эксплуатироваться художниками и брендами. С другой стороны, глобальная массовая культура постоянно обогащает палитру значений. Цвет становится средством коммуникации, выбор аватара с радужной рамкой в соцсети мгновенно сообщает о ценностях человека.
Каждый год институт Pantone объявляет для нас цвет года, влияя на дизайн и моду, например, после ультрафиолетового 2018 года фиолетовый стал ассоциироваться с инновациями и креативностью в медиа. И хотя меняются технологии, цифровые неоновые цвета, гибридные оттенки, психологическая и культурная основа цветовой символики остается глубокой, она по-прежнему берет начало в нашей психике и истории.
Сейчас мы проследили долгий путь психологизма цвета, от древних ритуалов до культуры наших дней. Цвет, будучи физическим свойством света, вошел в среду как мощный носитель смысла. Определенные цвета действуют на психику универсально, красный будоражит, синий успокаивает, светлое радует, темное настораживает, эти эффекты подтверждены как жизненным опытом, так и экспериментами ученых.
В обрядах и фольклоре цвет стал языком символов, через вышитый узор или окрашенное знамя люди передавали мысли о жизни, смерти, любви и вере. Мы увидели, что культурные различия в восприятии цвета значительны, у каждого народа своя цветовая карта мира, связанная с традицией, будь то красный свадебный наряд в Китае или белый траурный саван в Японии, но при этом существуют и сходства, основанные на общечеловеческом опыте, как ассоциации светлого с добром, а темного с опасностью, например).
Фольклор закрепил за века типичные цветовые образы, которые продолжают жить в языке и сознании. Современная массовая культура во многом переработала старую символику, где-то усилила, где-то перевернула, а где-то изобрела новые смыслы. В итоге цвет остается одной из базовых категорий человеческого мышления и творчества.
Междисциплинарный анализ цвета, находится на пересечении психологии, этнографии, культурологии и позволяет нам глубже понять, почему определенная окраска способна вызывать у нас те или иные чувства и как через цвета человечество говорит о главном.
Изучая язык цвета, от орнаментов на рушнике до неоновых инсталляций современного искусства, мы фактически читаем код культурной памяти и психологии. И хотя мир вокруг нас постоянно меняется, палитра символических значений цветов продолжает обогащаться, связывая воедино прошлое и настоящее, науку и искусство, личные эмоции и коллективные мифы.
Цвет в пространстве жизненной среды
Представьте себе тихий рассвет в горах, когда первые лучи солнца окрашивают небо нежно-розовым и золотым, заливая долину мягким светом. В этот момент цвет создает атмосферу пробуждения и надежды, воздействуя и на наши чувства, и мысли. В пространстве, где мы живем и работаем, цвет давно стал своего рода безмолвным языком. Он формирует погоду наших интерьеров, то теплую и уютную, то холодную и отчужденную, и незримо направляет наше поведение. Цвет в жизненной среде стал феноменом на стыке философии и психологии, культуры и практики дизайна. Он способен менять значение в разных системах мировоззрения, вызывать противоположные эмоции у представителей различных культур и глубоко влиять на наше ощущение безопасности или тревоги.
В данной главе мы рассмотрим цвет как многогранное явление, и проследим, как понимание цвета эволюционировало от античных натурфилософов до восточных учений Васту и фэншуй, и до современных западных герменевтических подходов. Мы погрузимся в психологию цвета в пространстве и как палитра окружающей среды влияет на чувство уюта и принадлежности, формирует или снимает напряжение. Наконец, мы разберем конкретные интерьерные решения, насыщенные цветом стены, приглушенный свет, многослойные сочетания, цвет как границу комнаты или акцент, и выясним, каким образом эти приемы создают эмоциональную атмосферу.
В древних философских системах цвет понимался не только как свойство внешнего мира, но и как отражение фундаментальных принципов бытия. Античные мыслители стремились вписать цвета в космический порядок. Например, в учениях древнегреческих философов прослеживается связь цвета со стихиями природы. Эмпедокл и последователи полагали, что четыре основных цвета, белый, желтый, красный, черный – соответствуют четырем стихиям (воздуху, огню, воде, земле) и качествам мироздания. Светлый (белый-желтый) спектр ассоциировался у греков с теплом и жизненной энергией, тогда как темный (красный-черный), с холодом и материей; между ними устанавливалось динамическое равновесие.
Аристотель, рассуждая о природе цвета, считал, что все оттенки рождаются смешением света и тьмы в различных пропорциях. В его модельном ряду белый цвет символизировал чистый свет, черный, полное отсутствие света, а промежуточные цвета возникали как этапы сумерек между ними.
Поэтому, античная мысль рассматривала цвет не изолированно, а как процесс и отношение, цвет был индикатором стихии и одновременно элементом мировой гармонии. Другой пример, культура Древнего Египта, где цветовую символику поднимали до священного уровня. Египтяне наделяли цвета божественными смыслами, золото ассоциировалось с солнцем и бессмертием (кожа богов изображалась золотой), синий, с небом и истиной (например, синие парики фараонов), зеленый, с возрождением и жизнью (цвет бога Осириса), а красный, с силой и гневом (цвет глаза бога Ра). Каждый цвет вплетался в мифологию и ритуалы, обозначая космические силы. Подобно грекам, египтяне видели в цветах проявление космического порядка, но выражали это через религиозно-символический язык.
В мировоззрении Востока цвету отводится активная роль в гармонизации пространства и энергии. Васту-шастра, древнеиндийское учение об архитектуре и среде обитания, рассматривает цвет как средство балансировки пяти стихий и потоков жизненной энергии праны. Васту предписывает соответствие цвета сторонам света и функциям помещений, чтобы пространство звучало правильной нотой.
Например, северо-восток дома в Васту считается священным сектором воды и мудрости, здесь рекомендуются светлые и прохладные тона, такие как небесно-голубой или белый, чтобы усилить атмосферу ясности ума, чистоты и духовности.
Напротив, южно-восточный сектор огня, просит теплые цвета, оттенки красного, оранжевого, розового, стимулирующие жизненную активность и благополучие, поэтому традиционно кухню или столовую в этом направлении окрашивают в жизнеутверждающие огненные тона. Каждая сторона горизонта в Васту связана с планетой и стихией, а цвета выступают корректором их влияний.
Земляной юго-запад любит умиротворяющие бежево-коричневые гаммы, дарующие ощущение стабильности и укорененности семьи. Легкий воздушный северо-запад благоприятно воспринимает белые и кремовые оттенки, способствующие общению и творчеству. Восток, пронизанный энергией восходящего солнца, приветствует зеленый и золотисто-желтый, цвета роста и новых начинаний, а огненный юг – смелые красные и оранжевые, придающие славу и силу.
В философии Васту цвет, это не просто эстетика, а инструмент настройки потока праны в жилище. Последователи данного направления верят, что правильно выбранная палитра комнаты, по этим канонам, поддерживает здоровье, процветание и мир домочадцев.
Близкая по духу, китайская традиция фэншуй также рассматривает цвет как проводник энергии ци и элемент системы пяти стихий (У-син). Каждой стихии в фэншуй соответствует определенный цвет, питающий или, наоборот, подавляющий энергию в пространстве. Например, стихия Огонь представлена красным цветом, мощным, активным и притягивающим удачу. Но чрезмерное изобилие красного может перегреть атмосферу, поэтому фэншуй советует использовать его дозированно, как акцент, особенно в спокойных зонах вроде спальни.
Зеленый и синий в фэншуй относятся к стихии Дерева, символизируя рост, обновление и жизненные силы. Эти цвета рекомендуются для зон семьи и здоровья, они освежают энергетику дома, подобно весенней поросли. Желтый и земляные оттенки представляют стихию Земли, стабильность, питание, центричность; они хороши для зон, связанных с уютом и центром семьи.
Белый, серебристый и металлические оттенки, проявление стихии Металла, ассоциируются с ясностью, порядком и концентрацией; их нередко применяют в офисах и учебных пространствах для усиления интеллектуальной работы.
Черный и глубокий синий, стихия Воды, воплощают мудрость, глубину и спокойствие. Вода связана с карьерой и потоком изобилия, поэтому северную часть дома (зону карьеры) часто оформляют в сине-черной гамме или добавляют элементы воды. При этом фэншуй учитывает баланс инь-ян, избыток темного (инь) может привести к унынию, тогда как переизбыток яркого ян-цвета – к нервозности. Поэтому мастера фэншуй советуют создавать цветовые комбинации.
К примеру, сочетание зеленого и желтого дает гармонию роста и устойчивости, а дуэт синего с белым – мир и чистоту. Можно увидеть, что цель направлений фэншуй и Васту похожа, через цвет они пытаются уравновесить энергии помещения и человека, приводя их в резонанс с природными ритмами.
Западная мысль о цвете прошла путь от средневековой символики к современному пониманию цвета как культурно обусловленного языка, требующего интерпретации (герменевтики). В европейском Средневековье господствовал строго закрепленный символизм цвета. Каждый оттенок имел каноническое значение в религиозном и социальном контексте. Белый воспринимался как цвет божественной чистоты и невинности, в такие одежды облачали невест и святых, тогда как черный означал отказ от мирского, траур и смирение, отсюда возникли черные монашеские рясы и облачения для скорбящих.
Красный в христианской культуре получил двойственную трактовку, с одной стороны, это цвет Христовой жертвы и крови мучеников, с другой, цвет греха и дьявола (образ алого дракона, багровые одежды блудницы Вавилонской в Апокалипсисе). Синий в готических соборах, небесный, богоматеринский цвет (Дева Мария традиционно изображалась в лазури), символизирующий веру и небесную благодать. В то же время синий мог ассоциироваться и с меланхолией, отголоски этого мы видим в выражении «хандра» как blue devils в англоязычной культуре.
Такая богатая символика объяснялась через герменевтические ключи, богословы и философы искали истоки значений в Библии, в учениях Отцов Церкви, в античных натурфилософах. Цвет рассматривался как текст, данный Богом, его нужно было правильно прочесть. В этом смысле средневековый западный человек жил в интерпретированном мире цвета.
С эпохой Возрождения и Нового времени отношение к цвету постепенно меняется. С одной стороны, появляется научный подход, благодаря Исааку Ньютону, открывшему спектральную природу цвета. После его опытов с призмой (1666 г.) цвет стал пониматься как физическая характеристика света, определяемая длиной волны.
Это открытие лишило цвета ореола мистики и закрепило в сознании Европы представление о его объективной, измеримой природе. Однако парадоксальным образом, одновременно усилился интерес к субъективному восприятию цвета. Цвет был признан не столько свойством объекта, сколько результатом интерпретации в сознании человека.
Культурологи и антропологи показали, что значение цветов не универсально, а зависит от культурного кода. Так, психолингвистические исследования Б. Уорф, Б. Берлин и П. Кей выявили, что разные языки делят цветовой спектр по-разному и это влияет на восприятие, то есть язык и культура буквально формируют то, как мы видим цвет.
В философии и эстетике распространилась мысль, что наш взгляд на цвет нагружен предрассудками, ассоциациями и личным опытом. Цвет выступает как текст, который мы читаем бессознательно, опираясь на предварительное понимание. Западная герменевтика, искусство толкования, в применении к цвету означает, чтобы понять воздействие цвета, нужно учитывать контекст и наблюдателя.
Так, один и тот же голубой цвет стены может вселять чувство покоя в одном человеке, если ассоциируется у него с ясным небом детства, и вызывать холодную отстраненность у другого, если напоминает больничные стены из личного опыта. Герменевтический подход учитывает и телесно-психологические аспекты, современные исследования подтверждают, что восприятие цвета фильтруется через телесную память и эмоциональные схемы. Другими словами, на наше ощущение от цвета влияют глубинные пласты опыта, от архетипических символов до детских воспоминаний.
В западной мысли XX–XXI вв. сложилось объемное понимание, что цвет, это многомерный знак. Его значение рождается на пересечении физиологии, личного психологического состояния и культурного контекста. Сегодня, когда дизайнеры и психологи работают с цветом, они фактически становятся герменевтами, интерпретаторами и переводчиками смыслов цвета для нужд человека.
Например, архитектор, создающий интерьер, понимает, что выбор цветовой гаммы должен исходить не только из модных тенденций, но и из тех смыслов и чувств, которые цвета вызовут у жильцов. А психолог, анализируя рисунки клиента или цвет среды, где тот обитает, читает в них эмоциональные послания. Западный герменевтический подход учит нас видеть за простым вопросом «какого цвета комната?» более сложный: «что означает для нас этот цвет в данной комнате и почему мы реагируем на него именно так».
Цвет, как и язык, приобретает порой совершенно разные значения в разных культурах. То, что для одних, будет символ радости и удачи, для других, знак траура или опасности. Эта разница складывалась веками под влиянием исторических, религиозных и природных факторов. Погружаясь в многообразие культурных кодов цвета, мы словно надеваем разноцветные очки, через которые каждый народ видит мир по-своему.