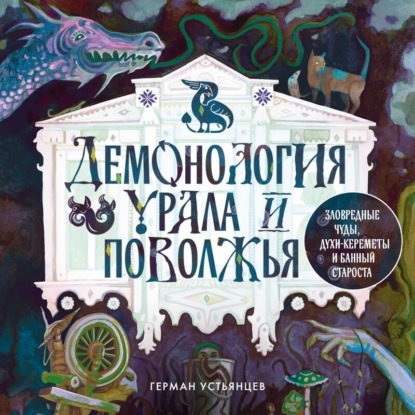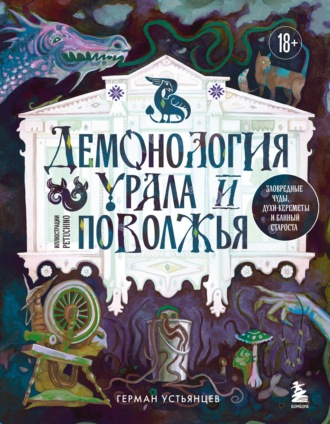
Полная версия
Демонология Урала и Поволжья. Зловредные чуды, духи-кереметы и банный староста
В путь, дорогой читатель!
Глава 1
Демон вездесущий и опасный. Общие представления о нечистой силе

Прежде чем поведать читателю о многообразном и об интересном мире Урало-Поволжской низшей мифологии, автор хотел бы познакомить его с обобщенными представлениями о нечистой силе у местных народов. В этой главе будут рассмотрены наиболее распространенные мифологические понятия, обозначающие фольклорных демонов, их наименования, функции и визуальные особенности.
В марийском фольклоре нечистую силу называют ия (от тюрк. ия – «хозяин»), кереметами или обобщенно осал вий (луговомар. «злая сила»), причем ия может быть как общим названием демонов, так и наименованием обитателей конкретных локусов. У горных марийцев распространен мифоним келтымаш, обозначающий злого духа. Мордовские шайтаны (слово проникло в местную мифологию под влиянием мусульманских традиций) могут встретиться человеку в заброшенных зданиях, в лесах, на болотах. Им обычно приписывают исключительно вредоносные функции. Удмуртскую нечисть называют шайтанами. Фольклорная традиция коми-пермяков богата сюжетами о демонах-чудах, одно из значений этого демононима[17] – зловредные духи, нечистая сила. Чуды обитают в пограничных пространствах: в лесах, на дорогах, в озерах. Иные значения мифонима чуды/чудь, связанные с культом предков и мифологическим племенем, раскрыты в другом разделе книги. Коми-пермяки используют в мистических рассказах номинации чуд, куль, чомор, бес, черт, нечистэй. У коми (зырян) также часто встречается зловредный персонаж куль. Чувашам знакомы представления о киреметях, шуйттанах, их они считают наиболее распространенными и опасными демоническими существами. Обобщенное понятие всего нечистого в чувашском фольклоре – усал-тесел, что буквально переводится как «все дурное», «вредоносная сила». Народы Урала и Поволжья, оказавшись под значительным влиянием православной веры, переняли христианские представления о нечисти. В быличках и поверьях используются и русскоязычные понятия черт, бес. Демонов описывают как существ с рогами, хвостами, копытами.
Мусульманские народы, татары и башкиры, переняли из арабо-мусульманской мифологии веру в джиннов. Считается, что джинны могут принимать любые обличья и обитать в разных сферах пространства: под землей, в небе, воде, среди людей. Согласно исламской мифологии, джинны делятся на несколько видов: самые могущественные – мэриды, также известны ифриты, шайтаны, джилланы и, наконец, джанны. В устной фольклорной традиции эта иерархия часто не учитывается. Джинны могут быть опасными, зловредными существами, вызывать болезни и вселяться в людей. Рассказывают истории о том, как джинны посещают дома одиноких женщин, вдов, вступая с ними в сексуальную связь. От таких контактов женщины болеют и вскоре умирают[18]. Персонификациями нечистой силы в народном исламе являются также пери и шайтаны, которые известны и башкирам, и татарам. Мифоним «пери» или «пяри», как считают исследователи, происходит из иранской культуры. Под этим термином понимали мифических крылатых духов, защищающих человечество от нечистой силы. В традиции поволжских тюрок это слово приобрело демонический оттенок, так стали называть злых персонажей фольклора. Татары-кряшены верили, что пери живут в заброшенных постройках, банях. Этнограф Я. Д. Коблов обратил внимание, что в фольклоре дэвы более враждебно настроены к человеку, чем джинны, стараются погубить его, в то время как джинны не приносят существенного вреда. В татарской фольклорной традиции бытуют представления о бичуре – шаловливом духе в образе небольшой женщины в татарском головном уборе урпяк. Считается, что она обитает в жилых помещениях, в подполье, в бане. Бичура наводит беспорядок в доме, бьет посуду, пугает жильцов. Злой персонаж албасты обитает в полях, на лугах и известен тем, что пьет у людей кровь. В башкирском фольклоре известен зловредный дух бисура, которого представляют в виде маленького человека в красной одежде.
Представленные выше названия демонов являются наиболее частыми и универсальными понятиями, обозначающими нечисть. Они сродни восточнославянским бесам и чертям и могут замещать в мифологическом тексте почти любого персонажа, выступая в качестве родовой обобщенной категории для всей нечистой силы. Встреча с ними возможна в любом месте, но особенно вероятна в необжитых пространствах: лесах, оврагах, водных объектах, заброшенных зданиях, на горах и дорогах.
В традиционной культуре демоны осмысляются как существа, слабо выделенные из мира природы. Многим персонажам приписывают части тела зверей: рога, копыта, хвосты (особенно у татарских шайтанов, марийских ия). С животным миром нечисть сближают также наличие шерсти, способность представать в образе домашних (собак, кошек) или лесных (медведей, птиц) животных, а также пресмыкающихся (змей, лягушек).
Демонологические представления народов Урало-Поволжья богаты рассказами о гигантских и, наоборот, очень маленьких демонах. Обычно встречи с высокими существами происходят в природных ландшафтах, с маленькими – в избе или бане, что объяснимо параметрами пространств. Более того, один и тот же мифологический персонаж может менять длину и пропорции своего тела в разных нарративах. Так, марийский ия может быть как огромной темной фигурой, так и маленьким домашним демоном. Характеристики роста подчеркивают инаковость нечистой силы, ее отличие от физических параметров, считающихся нормой. Крошечный рост может быть связан с представлениями о бестелесности нечистой силы, невозможностью увидеть и разглядеть ее.
Гипертрофированными могут быть и отдельные части тела персонажа, например, марийская демоница овда или удмуртская обыда обладает длинной висячей грудью, которую, подобно восточнославянской русалке или тюркской албасты, закидывает за плечи.
Фольклорные демоны почти всегда обладают физическими особенностями, отличающимися от представлений о физической норме: хромотой, слепотой, телесной неполнотой. Демонические персонажи представлены без одной ноги, руки, глаза или вовсе обладают только половиной тела (например, удмуртский палэсмурт – «половинчатый человек»). В быличках заметна одна интересная деталь. Часто демона видит герой повествования, наблюдает за ним какое-то время, но о зрительном контакте с персонажем не говорится. Куда направлен взгляд демона? Способен ли он вообще видеть? Некоторые исследователи объясняют эту примечательную деталь устных текстов буквальной или метафоричной слепотой демона [19].
В описаниях нечистой силы выявляется определенный набор цветов. Так, очень часто во внешности демона доминируют черный (или более нейтрально – темный), красный и белый цвета. Мифологические персонажи могут иметь красные атрибуты: головные уборы, пояса, а также носить белую одежду. Вероятно, белый цвет фигурирует в описании демонических существ как цвет савана, он символизирует связь персонажей с загробным миром. Оттенки белого присущи как одеянию мифологических персонажей (белое платье, белая рубашка), так и цвету кожи, волосам, бороде. Костюм фигурирует в назывании персонажа: «старик в рубахе», «девушка в белом».
В то же время мифологические существа, обитающие в лесах или реках и водоемах, описываются информантами как голые. Нагота демона подчеркивает его внесоциальный характер, неприятие человеческих устоев, а также связь с дикой природой.
Демоны часто предстают в виде стариков или женщин. Описывая их, обычно отмечают такие особенности, как морщинистость, маленький рост, лохматость, непривлекательная внешность. Как правило, они внешне неопрятны; лохматые, неубранные волосы у женских персонажей следует рассматривать как нарушение установленных в обществе норм. Фольклористы интерпретируют растрепанные волосы как устойчивый признак бесовства[20]. Более того, взъерошенные волосы могут обозначать испуг и душевный беспорядок[21].
Возраст демонов (по крайней мере, визуальный) не является устойчивой характеристикой, закрепленной за тем или иным персонажем. Часто их представляют как очень пожилых людей, седых стариков и старушек. При этом нечисть может принимать и обличья детей, чтобы ввести доверчивого человека в заблуждение, завоевать его доверие и начать коммуникацию.
Демон в мифологической традиции склонен к перевоплощениям, он принимает различные антропоморфные[22], зооморфные[23], реже – флороморфные[24] формы, превращается в предметы, природные явления (вихри, молнии) и свечения. Такое умение свойственно как неживым персонажам (нежити), так и колдунам. В мифологических повествованиях герой часто встречается именно с временной личиной демона. Задача человека – опознать в маленьком ребенке, красивой женщине или коте опасное существо. В фольклористике существует мнение, что способность менять внешний облик символизирует представления о переходе существа из одного мира в другой, инверсивный (обратный) характер демонического пространства. Изменяя обличья, персонаж сохраняет при этом намерения, чувства и эмоции[25]. Он может принимать облик соседей или родственников человека, что считается дурным знаком:
У нас лес есть, там нечистая сила. Мы когда еще с Васей встречались, поехали туда на машине, еще день был. Захотел он в туалет сходить, вышел из машины. Прибегает весь испуганный и говорит: «Быстрей поехали». Я его спрашиваю: «Что случилось»? Сигналит, сигналит. Вышел, говорит, из леса человек, сигарету вот так держит и идет буквально в его сторону. Идет и идет, но молчит. Очень был похож на нашего знакомого из деревни, Леню. Но что ему в лесу делать? Мы приехали когда в село, то он его спросил, этого Леню: «Это ты был, что ли»? Тот и говорит: «Нет, я вообще был на тракторе, сено косил». Вот, бывает, что-то такое встречается.
Иногда нечисть может оборачиваться и бесформенными объектами, как, например, в рассказе одной пожилой татарки:
Я два раза видела у соседей, к ним, к соседям, приходил. Была у меня тетка, к ней родственники мои приходили, это сестра моей мамы, очень общительная была. Напротив ее дома жила одна женщина, такая бедная, нелюдимая, такая неаккуратная. Все у нее неблагополучно было. И вот я к ней, своей тетке, ходила ночевать, мне нравилось у нее там бывать. Она жила прямо напротив этого дома. Однажды, когда у меня бессонница была, встала и выглянула в окно. Не могла уснуть, и все. Вижу – летит что-то. Такое красное, как комета, красный шар. У него еще хвост был не один, а несколько. Залетел прямо в этот дом по соседству, точно не помню как. Наверное, это шайтан и был, непонятное что-то такое.
Помимо антропоморфного, зооморфного, смешанно антропоморфного (сочетание звериных и человеческих признаков), исследователи выделяют нулевоморфный облик нечистой силы[26]. Так, демоны не всегда проявляются визуально, но могут обозначить свое присутствие через звуки, перемещение предметов в воздухе (полтергейст). Неслучайно по наиболее распространенной версии слово «джинн» происходит от арабского глагола janna, что значит «скрывать, покрывать». Соответственно способностью этих демонов считается невидимость для взора человека.
Функции нечистой силы в фольклоре не сводятся только к вредительству. Бывают и духи – защитники пространств, помощники в хозяйстве и другие. Конкретное проявление активности демона зависит от места его обитания и выполняемых функций. Если говорить о нечистой силе вообще, то часто ей присущи функции дезорганизации социального пространства, распространения пагубных привычек и идей. Они толкают людей на дурные дела и вселяют негативные мысли. В одной чувашской деревне нам рассказали историю о персонаже местного деревенского фольклора:
Говорили, что мужики часто собирались раньше и ходили пить, особенно по вечерам. Нечистый их на это подбивал, скорее всего. Как собираются, так и ходят толпой, и именно в этой деревне была такая проблема. Местные давно заметили, что есть среди этой группы какой-то непонятный, неизвестный мужик, не местный, никогда здесь не жил. Откуда он мог являться каждый день? Вот стали рассказывать, что, может быть, это нечистый принимает облик такой и спаивает деревенских, чтобы деревня исчезла совсем. Черные глаза у него, черные волосы были, а одет обычно. Потом, кстати, он исчез совсем, его перестали видеть. А может, это и настоящий был человек, не знаю.
Можно ли разделить персонажей низшей мифологии на добрых и злых? На этот вопрос однозначно не ответить. Фольклористы считают, что активность нечистой силы имеет двойственное проявление. Конечно, духи, обитающие в домашнем пространстве, выполняют патронажные функции и более полезны человеку в сравнении с духами природных объектов и тем более вредоносными персонажами (кереметами, джиннами, дэвами). Тем не менее для всех категорий демонов с разной степенью проявленности характерны свойства и помощников, и вредителей. Отчасти действия нечисти зависят от поведения человека, соблюдающего или нарушающего определенные общественные предписания. В этом проявляется назидательный, прагматический характер демонологических рассказов: в первую очередь бояться встречи с демоном стоит тому, кто неосторожен, груб, завистлив, не уважает труд, свой дом и окружающую природу.
Глава 2
Кто в доме хозяин, или Почему один домовой лучше двух

В этой главе речь пойдет об одном из самых популярных персонажей деревенского фольклора – духе дома. Жилое пространство в традиционной культуре понимается как система символических границ. Двери и окна воспринимаются в качестве внешних границ дома, а забор как бы очерчивает пространство двора и отделяет его от внешнего мира. В поверьях многих народов, в том числе Урала и Поволжья, нельзя выходить за ограду в темное время суток, а также смотреть ночью в окно. Считается, что в это время дом – самое безопасное место в деревне, а на улице велика вероятность встретиться с нечистой силой. Известно множество обрядов, направленных на защиту порогового пространства от воздействия колдовства и злых демонических сил. Через дверь провожают на тот свет покойника, с нее начинают обживать новую постройку. Особым символизмом обладают углы и печное пространство. Печь в крестьянской культуре – это символический центр, источник пищи, обогрева, она фигурирует в обрядах народной медицины. В то же время печь несет потенциальную опасность: считалось, что через печную трубу в дом попадает нечисть, а за печкой живет мифический покровитель дома. В углах, своего рода периферии жилья, и сейчас замечают присутствие домового. Для некоторых этнических групп (марийцев, удмуртов) сакральным местом являлась отдельная небольшая постройка, молельный дом – кудо
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Исхаков Д. М. Татарская этническая общность // Татары / отв. ред. Р. К. Уразманова, С. В. Чешко. М.: Наука, 2001. С. 11–25.
2
Там же.
3
Мокшин Н. Ф. Происхождение и этническая история мордвы // Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н. Ф. Мокшин и др. М.: Наука, 2000. С. 336–339.
4
Попов Н. С., Молотова Т. Л. Введение // Марийцы. Историко-этнографические очерки / отв. ред. А. С. Казимов. Изд. 2-е, доп. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2013. С. 6.
5
Владыкин В. Е. Этнография удмуртов. Ижевск: Удмуртия, 1997. С. 16–17.
6
Шабаев Ю. П. Этнографические группы коми-пермяков // Народы Поволжья и Приуралья: Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. Мордва. Удмурты / отв. ред. Н. Ф. Мокшин и др. М.: Наука, 2000. С. 31–32.
7
Там же. C. 51–54.
8
Никитина Г. А., Устьянцев Г. Ю. Традиционные религии vs неорелигии в XXI веке. Проблемы классификации и синкретизма (на материалах Поволжья) // Марийская традиционная религия: история и современность: мат-лы Всерос. науч. – практ. конф., посвященной Году культурного наследия народов России (Йошкар-Ола, 9‒10 июня 2022 года). Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2022. С. 203.
9
Информант – носитель традиции, выступающий в качестве источника информации.
10
Виноградова Л. Н. Славянская народная демонология: Проблемы сравнительного изучения: дис… д-ра филол. наук. М., 2001. С. 17–20.
11
Мифоним – термин, обозначающий название мифологического образа.
12
Нарратив – повествование об определенных событиях, имеющее устную или письменную форму.
13
Левкиевская Е. Е. Прагматика мифологического текста // Славянский и балканский фольклор: семантика и прагматика текста / отв. ред. С. М. Толстая. М.: Индрик, 2006. С. 150–213.
14
Черванева В. А. Быличка и поверье как разные способы передачи информации // Живая старина. 2014. № 1 (81). С. 33.
15
Респондент – здесь: человек, отвечающий на вопросы исследователя, источник информации.
16
Dégh L. Legend and Belief: Dialectics of a Folklore Genre. Indiana University Press, 2001. 498 p.
17
Демононим – наименование демонического персонажа.
18
Bartel B. F. Interpreting Djinn’s Actions: Ritual and Theologica Knowledge in Moroccan Sufism // Sibirskie Istoricheskie Issledovania – Siberian Historical Research. 2022. №. 3. P. 34–40.
19
Неклюдов С. Ю. Слепота демона и ее литературные перспективы // Сила взгляда. Глаза в мифологии и иконографии / отв. ред. и сост. Д. И. Антонов. М.: РГГУ, 2014. С. 125–147.
20
Мифологические рассказы и легенды Русского Севера / сост. и авт. коммент. О. А. Черепанова. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 94.
21
Махов А. Е. Средневековый дьявол post mortem: трансформация визуальных маркеров демонического в «Иконологии» Чезаре Рипы // In Umbra: Демонология как семиотическая система: альманах / отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. Вып. 3. М.: Индрик, РГГУ, 2014. C. 114–115.
22
Антропоморфный – человекообразный, схожий с человеком по каким-либо признакам.
23
Зооморфный – обладающий определенными качествами животных.
24
Флороморфный – растительный, уподобляющийся растениям.
25
Неклюдов С. Ю. Оборотничество: «природа вещей», объем понятия, региональные версии // In Umbra: Демонология как семиотическая система: альманах / отв. ред. и сост. Д. И. Антонов, О. Б. Христофорова. Вып. 5. М.: Индрик, РГГУ, 2016. С. 18–25.
26
Толстой Н. И. Язык и народная культура: Очерки по славянской мифологии и этнолингвистике. М.: Индрик, 1995. С. 264.