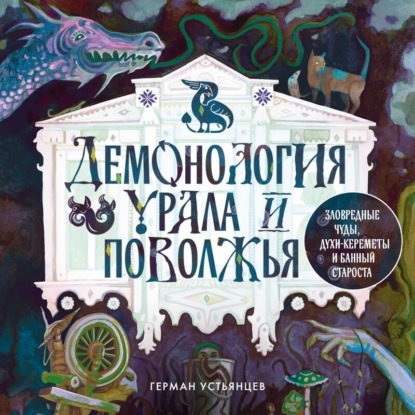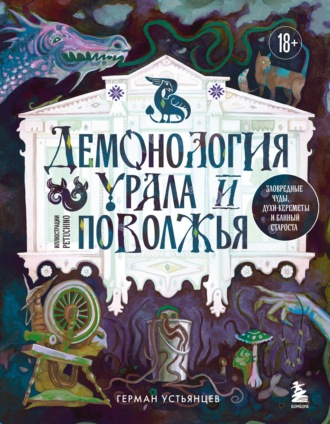
Полная версия
Демонология Урала и Поволжья. Зловредные чуды, духи-кереметы и банный староста

Герман Юрьевич Устьянцев
Демонология Урала и Поволжья
Зловредные чуды, духи-кереметы и банный староста
© Институт этнологии и антропологии РАН, 2025
© Герман Устьянцев, текст, 2025
© PETUCHINO, иллюстрации и обложка, 2025
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2025
Введение
Урало-Поволжье – мир на перекрестке культур

Каждый раз возвращаясь в Урало-Поволжье с экспедициями за новым полевым материалом, автор не устает удивляться разнообразию традиций, которые представлены в этом регионе. Порой разительные отличия можно наблюдать в обрядах и фольклоре соседствующих деревень. Что уж говорить о соседних народах! В Урало-Поволжье традиционно проживают носители трех крупных языковых семей: алтайской, индоевропейской, уральской. Они являются последователями нескольких мировых религий и разнообразных традиционных верований.
Эта книга – увлекательное путешествие в мир фольклора народов Урало-Поволжья, находящегося на перекрестке культур и языков.
На тюркских языках, которые относятся к тюрко-монгольской ветви алтайской семьи, говорят татары, башкиры и чуваши. Татары – один из самых многочисленных народов России, титульная нация Республики Татарстан. Его представители живут на территории от Поволжья до Сибири. Еще в X веке ислам суннитского толка распространился среди тюркоязычного населения Поволжья. Сейчас это основная религия татар. Наиболее многочисленной этнотерриториальной группой в составе татар являются волго-уральские, или поволжские, татары. Этнографы выделяют также этнотерриториальные группы астраханских и сибирских татар, сформировавшихся в результате миграций[1]. Из этой книги читатель узнает о фольклоре волго-уральских татар, в составе которых присутствует несколько этнографических групп: казанских татар, касимовских татар, татар-мишарей, татар-кряшен[2]. Существенно выделяется среди них культура татар-кряшен, этноконфессиональная группа православных татар. Христианская религия повлияла на фольклор и мифологию татар-кряшен, предопределила особенности фольклорно-мифологических представлений этой группы татар.
Еще одним тюркоязычным народом, о котором рассказывает эта книга, являются башкиры – второй по численности в Урало-Поволжье тюркоязычный народ, чей язык относят к кыпчакской подгруппе тюркских языков. Башкиры традиционно проживают в Республике Башкортостан, в Челябинской и Свердловской областях. Основная религия башкир – суннитский ислам. В составе башкирского народа – четыре этнографические группы: юго-восточная, северо-восточная, юго-западная, северо-западная. По каким признакам их выделяют? Основных признаков три: территория проживания, консолидация родо-племенных общностей, бытование диалектов башкирского языка. На мифологические представления татар и башкир повлияла мусульманская мифология, что особенно проявилось в эсхатологии, демонологии и космогонии. Фольклор этих народов сохранил и черты доисламских верований.
Еще один тюркоязычный народ Поволжья, о мифологических представлениях которого узнает читатель, – чуваши. От соседних тюрок их отличает в том числе конфессиональная принадлежность: чуваши исповедуют православную веру. Язык этого народа тоже является тюркским, но входит в булгарскую группу, в настоящее время являясь единственным живым булгарским языком. Чуваши включают в себя три крупные этнографические группы. К ним относятся верховые чуваши, проживающие на северо-западе Чувашии, низовые чуваши южных территорий республики и средненизовые чуваши северо-востока республики, которые объединяют в себе культурные черты как низовых, так и верховых. Отличаются они друг от друга диалектом, костюмом и фольклором. Часть чувашей самарского Заволжья, Татарстана, Башкортостана и Ульяновской области являются последователями традиционных верований.
Вторая крупная этноязыковая общность Урало-Поволжья – это финно-угры, говорящие на языках уральской семьи. В регионе живут носители языков финно-пермской ветви, разделяющейся на две группы: пермскую и волжскую. На языках первой говорят коми, коми-пермяки и удмурты, а на языках второй – марийцы и мордва. Помимо языковой близости, эти народы характеризуются историко-культурной общностью, что проявляется и в мифологических представлениях.
Самым многочисленным финно-угорским народом Урало-Поволжья является мордва, в составе которой выделяют мордву-мокшу и мордву-эрзю. Соответственно существуют и два литературных мордовских языка: мокшанский и эрзянский. Помимо Республики Мордовия, мордва традиционно проживает в Самарской, Пензенской областях и в других субъектах Российской Федерации. Принято отдельно рассматривать несколько этнографических групп, например шокшу – общность эрзян, испытавших значительное влияние мокши в языке, бытовых традициях, духовной культуре. Интерес для ученых представляет малочисленная группа мордвы, каратаи, проживающая в Татарстане и говорящая на татарском языке[3]. Основной религией мордвы является православие, однако в некоторых населенных пунктах сохранились элементы традиционных дохристианских верований.
Близки в этноязыковом отношении к мордве марийцы – народ, проживающий в Республике Марий Эл и в других субъектах Урало-Поволжья: Кировской, Нижегородской областях, Башкортостане. Этнографы выделяют три этнические группы: луговых, восточных и горных марийцев. Существует два литературных марийских языка: луговомарийский (лугово-восточный марийский) и горномарийский, численность носителей которого намного ниже. На лугово-восточном языке говорят луговые марийцы, традиционно населяющие Марий Эл и соседнюю Кировскую область. На восточном его диалекте общаются восточные марийцы, проживающие в Башкортостане, Татарстане, Свердловской области, Удмуртии. На восточных марийцев значительное влияние оказали соседние тюркоязычные народы, татары и башкиры. Горные марийцы являются частью населения Горномарийского района и соседней Нижегородской области. Эта малочисленная группа обладает своим литературным языком, особенностями материальной культуры и фольклора. Значительное воздействие на их формирование оказало соседнее русское население. Исследователи также отмечают общие черты в культуре горных марийцев и чувашей[4]. Отдельной этнографической группой является и немногочисленная общность северо-западных марийцев Нижегородской и Кировской областей, говор которых совмещает черты горномарийского и луговомарийского языков. Горные марийцы исповедуют православие, а луговые и восточные – последователи как православного христианства, так и традиционных верований.
Удмурты также являются носителями языка финно-угорской группы. Сегодня они проживают на территории Удмуртской Республики, в Татарстане, Башкортостане, а также в других регионах России. Литературный язык этого народа включает в себя северное и южное наречия. Учитывая этот факт, можно говорить об этнографических группах северных и южных удмуртов. На севере Удмуртии проживают также бесермяне – носители бесермянского наречия, испытавшего сильное влияние тюркских языков. В настоящее время бесермян часто рассматривают как отдельный народ[5]. Абсолютное большинство удмуртов исповедуют православие, однако некоторые представители южной группы продолжают оставаться последователями традиционных верований.
Коми (коми-зыряне, зыряне) и коми-пермяки – два близкородственных народа со своими литературными языками. Коми проживают в основном в Республике Коми. В их составе выделяют самостоятельные этнографические группы: вымичей, нижневычегодцев, прилузцев, сысольцев, удорцев, ижемцев, печорцев, верхневычегодцев. Они различаются особенностями языка и материальной культуры. В целом на коми значительно воздействовали русское население и православная вера.
Отдельной этнической общностью являются коми-пермяки, коренное население Пермского края. Они также проживают на территории Кировской и Тюменской областей. Описывая культуру этого народа, исследователи обычно говорят о четырех этнографических группах: иньвенских и кочевских коми-пермяках, зюздинцах и язьвинцах. Коми-пермяки относятся к преимущественно православному населению региона. В результате длительного межэтнического взаимодействия с русскими духовная и материальная культура коми-пермяков претерпела значительные изменения. Многие из них, как и коми-зыряне, перешли в общении на русский язык[6].
Основное по численности население Урало-Поволжского региона – русские, оно формировалось в результате переселений представителей как севернорусской, так и южнорусской этнографических групп. Влияние русских на местные народы выразилось в распространении православия и русского языка. Обращение в христианскую веру началось в XVI столетии (на некоторых территориях еще раньше) в связи с освоением русским государством территорий Поволжья. Однако наиболее активный переход некрещеных народов в христианство связан с миссионерской деятельностью православной церкви во второй половине XIX века. Тогда на территории Поволжья действовало Братство святого Гурия, образованное для обращения коренных народов в новую веру. В середине XIX столетия профессор Казанской духовной академии и Казанского университета Николай Иванович Ильминский разработал систему, включавшую открытие школ с преподаванием первоначально на «инородческом» языке и с постепенным переходом на русский, а также подготовку преподавателей, знающих местные языки, выходцев из коренных народов[7]. Важно отметить, что, несмотря на широкое распространение христианской веры, она часто носила среди новокрещеных формальный характер. Финно-угорские народы и чуваши долгое время продолжали верить во множество богов и духов, отправлять дохристианские культы.
В настоящий момент большинство представителей нерусских народов Урала и Поволжья являются билингвами: с детского возраста в той или иной степени они владеют и своим родным, и русским языками.
В предлагаемой читателю книге речь пойдет о демонологических представлениях этих народов, о традиционных или так называемых дохристианских верованиях, которые иногда условно обозначают понятием «язычество». В науке нехристианские культы обозначаются различными терминами: «фолк-религия», «этническая религия», «традиционная религия»[8], которые подразумевают веру во множество божеств, персонифицированные силы природы и ритуальные действия, направленные на коммуникацию человека с ними. Автор предпочитает использовать в отношении некоторых марийцев и удмуртов понятия «традиционная религия» или «традиционные верования», не вдаваясь в терминологическую дискуссию.
В Урало-Поволжье сформировался местный комплекс мифологических представлений, в который входят традиционные верования, а также исламские и христианские мотивы. Для жителей этого региона, при всем языковом многообразии, характерны некоторые схожие черты в костюмах, праздничных обрядах, ведении хозяйства. Местные народы практикуют земледелие, животноводство, охоту, рыболовство и собирательство, визитной карточкой региона считается традиция пчеловодства. Под влиянием модернизации XIX–XX веков в Поволжье и особенно на Урале развивались новые отрасли промышленности: добыча и переработка нефти и других полезных ископаемых, машиностроение, металлообработка. В XXI столетии в регионе насчитывается несколько городов-миллионников (Казань, Нижний Новгород, Пермь, Самара, Уфа), а темпы урбанизации высоки. Изменение образа жизни влечет за собой трансформацию мифологических представлений: теряют актуальность некоторые образы духов, связанных с хозяйственной деятельностью и деревенским бытом.
На демонологические представления народов Урала и Поволжья повлияли мозаичность местных религиозных верований, сочетание языческих традиций и мировые религии. В рассматриваемых культурах тюркских и финно-угорских этнических групп (а также русского населения) при всем многообразии выделяются и общие черты. Они обусловлены длительным взаимовлиянием народов, их соседством и общим историческим прошлым.
Читатель познакомится с «теневой» составляющей фольклорных традиций уральских и поволжских народов – представлениями о нечистой силе. Он увидит, сколь они многообразны и как изменчивы с течением веков. В качестве основных источников в книге использованы опубликованные фольклорные записи XIX – начала XXI века, собственные полевые записи автора, материалы из архива кафедры этнологии исторического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова и архива Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. В частности, привлечены архивные материалы советского финно-угроведа Веры Николаевны Белицер (1903–1983), специалиста по материальной культуре и обрядам народов Урала и Поволжья. Экспедиционные исследования проводились автором как индивидуально, так и в составе Поволжской этнологической экспедиции МГУ им. М. В. Ломоносова. В тексте приведены литературно обработанные фрагменты интервью. Все цитаты из полевых материалов анонимны и приводятся с разрешения информантов[9]. Для удобства читателей впервые упоминаемые в тексте этнографические понятия даны курсивом. Мифологические термины народов Урало-Поволжья приведены в русской транскрипции без включения специальных символов других алфавитов. Названия мифологических персонажей указаны со строчной буквы в случае, если подразумевается множественная категория существ, и с прописной, если речь идет о конкретном, единственном в своем роде духе или божестве.
Разговор о нечистой силе и вера в духовДля начала кратко охарактеризуем основной предмет нашего разговора – мир демонов и особенности бытования демонических образов в современной традиции. Демонология – это совокупность мифологических знаний об образах и о сверхъестественных явлениях, не имеющих божественного происхождения. В фольклористике для этой сферы существует понятие «низшая мифология», применимое в основном к образам злых демонов, духам-хозяевам, людям со сверхъестественными свойствами.
В фольклористике и этнолингвистике активно используется система описания мифологических персонажей по ряду характерных черт, первоначально разработанная на славянском материале. Ученые предлагают выделять такие признаки, как 1) наименования персонажа; 2) ипостаси (принятие разных обличий); 3) внешний облик; 4) атрибуты и спутники (например, гребень, меч); 5) взаимоотношения персонажей, наличие у них семьи, парность (духи-супруги), групповая или индивидуальная представленность; 6) генезис – способы возникновения персонажа (в результате «неправильной» смерти, колдовских действий и т. д.); 7) локусы – места появления и/или обитания; 8) время активности; 9) свойства и способности (например, оборотничество или способность сглаза); 10) особенности поведения; 11) функции (например, вредоносная деятельность или защита своего пространства); 12) объекты воздействия (люди, животные, растения, природные явления); 13) модусы – свойства образов, проявляющиеся только в определенных случаях; 14) формы и ситуации контактов с человеком; 15) основные фольклорные мотивы, которые связаны с деятельностью персонажа (например, мотивом можно считать ситуацию «дух леса проклинает деревню»); 16) характеристика фольклорных источников, в которых встречаются перечисленные признаки. Эта развернутая система описания частично использовалась автором книги в проведении опросов и описании фольклорных персонажей народов Урала и Поволжья.
Этнолингвист Л. Н. Виноградова предлагает свою классификацию мифологических персонажей на основе славянских фольклорно-этнографических данных. Как и любая подобная типология, она не универсальна и лишь отчасти применима к мифологическим системам других народов. В рамках этой классификации выделяют: 1) духов – хозяев домашнего пространства; 2) духов – хозяев природных локусов; 3) духов болезней; 4) духов – олицетворения несчастья, бед; 5) духов-обогатителей; 6) пугающих мифологических персонажей-устрашителей; 7) персонификации времени; 8) персонажей, вредящих роженицам и новорожденным; 9) духов-любовников; 10) духов – охранителей кладов. К ряду мифологических персонажей примыкают и живые люди: колдуны и ведьмы, двоедушники, одержимые и другие[10]. Мы используем эту классификацию лишь частично, потому что не все выделенные категории уместно подробно рассматривать на материале Урало-Поволжского региона. В частности, в местных современных традициях почти не представлены персонификации несчастья. Во многих случаях разделение персонажей носит условный характер. Например, духи – хозяева локусов могут выступать и в роли устрашителей, и в роли обогатителей. Для носителей традиции не существует четких различий между персонажными группами, а типологизацией образов занимаются исследователи. Основу структуры книги составила следующая условная классификация:
1 глава посвящена обобщенным представлениям о нечистой силе;
2 глава – духам – хозяевам домашнего пространства;
3 глава – банным духам;
4 глава – мифологическим хозяевам и обитателям воды;
5 глава – духам лесного пространства;
6 глава – главным персонификациям зла, божествам-антагонистам;
7 глава – обитателям загробного мира и мифологическому восприятию смерти;
8 глава – возвращающимся с того света мертвецам;
9 глава – змееподобным чудовищам;
10 глава – мифическим великанам;
11 глава – духам природно-климатических явлений и стихий;
12 глава – духам-болезням и поселяющимся в человеке существам;
13 глава – людям, обладающим магическими способностями.
Теперь коротко о ремесле собирателя. Многое в изучении традиции зависит от конкретного информанта, с которым велась беседа. Рассказчик может путать имена персонажей или вовсе не использовать их, употреблять в речи обобщенные понятия, например «нечисть». Он сам интерпретирует события мистического характера, придает им определенный смысл. К примеру, в ходе разговора информант определяет принадлежность персонажа к ведьмам, чертям, лесным духам, а может и вообще сомневаться в демоническом происхождении описываемого или наблюдаемого образа. Все это осложняет задачу дифференцировать мифологических персонажей, а многие выводы, к которым приходит исследователь, продиктованы субъективной оценкой повествователя.
Очень часто рассказчик избегает называть демона по имени. Почему? Не только по причине сакральных запретов или из страха перед этими существами, но и в силу коммуникативных особенностей жанра мифологических рассказов. Вместо слов «черт», «лесной демон», «шайтан» он использует другие способы номинации. Например, вместо существительных он использует глаголы «пугает», «водит», «портит». Кто этим занимается? Часто рассказчик не знает и сам. Поэтому бывает так, что присутствие персонажа подразумевается, но сам он не назван. В других случаях вместо мифонима [11]мы можем услышать местоимения он, она, этот, тот, кто-то, подразумевающие мифологического персонажа. Повествователь может не задумываться о том, какая именно нечисть встретилась ему, описывая ее через внешние признаки: пол («мужик», «женщина»), возраст («ребенок», «старуха»), физические параметры («высокий», «темный»), одежда. «Видела женщину в белом с длинными волосами» – вне контекста даже не всегда понятно, что речь идет не об обычном живом человеке, а о мифологическом существе. Именно с такими речевыми формами мы наиболее часто встречаемся в экспедиционных интервью. Если же демонический персонаж или колдун способен превращаться в животных, то в тексте он, вероятнее всего, будет назван по своему временному обличью: собака, птица, лягушка. Бывает и обратная ситуация: человек описывает своего родственника, знакомого, называет его по имени собственному, и только в контексте всего рассказа становится понятно, что этот конкретный персонаж – вернувшийся с того света покойник или оборотившийся в человека демон. Раскрыть содержательную и образную часть нарратива [12]помогают уточняющие вопросы собирателя, знание им традиции, собственный опыт фольклорной коммуникации и исследовательская интуиция. При этом необходимо помнить, что подсказывание информанту ответов на вопросы, попытка навязать ему собственные знания о мифологии ведут к грубым неточностям в фиксации материала.
Очень важно при общении с информантами учитывать контекст беседы, обстоятельства, в которых происходит разговор. Случается, что рассказчик нервничает, расстроен, напуган, ведь разговоры о духах и покойниках могут напомнить ему не самые приятные моменты жизни. Важен и культурный опыт рассказчика: его образование, увлечения, степень религиозности могут повлиять на интерпретацию мистического опыта. Следует учитывать и другие факторы, формирующие мифологический рассказ: восприятие событий местными жителями, традиции рассказа фольклорных текстов, степень веры повествователя в описываемые события.
Основной источник, представленный в книге, – тексты несказочной или мифологической прозы, то есть разновидность фольклорных текстов, рассказываемые как достоверные события (в отличие, например, от сказок). Этот термин вполне применим к фольклорной традиции народов Урала и Поволжья. Исследователь мифологии славян Е. Левкиевская выделяет четыре основных типа мифологических рассказов: былички, поверья, дидактические высказывания (назидания, запреты) и обращения к мифологическим персонажам[13]. Первые два типа рассказов будут часто встречаться на страницах этой книги. Под быличкой принято понимать сюжетный рассказ о сверхъестественных явлениях, о встрече человека с нечистой силой. Как правило, в такого рода устных рассказах присутствует герой, человек, который видит и слышит демона, вступает с ним во взаимодействие. Еще одна распространенная форма мифологического рассказа – поверье, «бессюжетное сообщение о верованиях, обычаях, ритуальных практиках»[14]. Часто поверья начинаются со слов «говорят, что». Например, «у нас говорят, что за печкой живет дух дома» – типичная форма поверий. Рассказчик несказочной прозы может находиться в разных связях с мистическими событиями: быть непосредственным их участником, наблюдателем, пересказчиком.
Когда мы говорим с информантами об их опыте взаимодействия с нечистой силой, то сталкиваемся с рядом сложностей и противоречий. Например, собеседник может стесняться говорить о мифологических представлениях, считать это чем-то неважным и смешным, тем более в разговоре с учеными. Некоторые носители традиции, напротив, убеждены в реальности демонов и их силе, поэтому не хотят упоминать даже их имен. Современные рассказчики могут предлагать рациональные объяснения увиденному, сомневаться в его сверхъестественности. Поэтому фольклорные повествования могут быть фрагментарны, в них отсутствуют детали. Наша задача как этнографов и фольклористов – вызвать доверие респондента[15], расположить его к себе, убедить в важности любой устной информации.
Общая тенденция всех интервью о нечистой силе – дистанцированность рассказчика от текста, обращение к коллективным представлениям или опыту третьих лиц. Редко кто из наших информантов делился личным опытом встречи с демоническими персонажами. Именно поэтому в рассказах не всегда встречаются яркие образы, стройная последовательность событий. Некоторые встречи с нечистой силой происходят не в реальном измерении, а в сновидениях. Отдельной проблемой для ученых является вера информанта в описываемые события, которая не всегда подлежит какой-либо оценке и анализу. В мифологическом рассказе границы реального и ирреального стираются, повествователь оперирует образами, а не логическими понятиями. На мистический опыт человека, как считают фольклористы и антропологи, влияет устоявшийся в традиции набор мифологических терминов и представлений[16].
В книге также представлены легенды и предания, являющиеся повествованиями о деятельности исторических персонажей, основании населенных пунктов.
Ценными источниками являются сказки (повествования о событиях, невоспринимаемых как реальные, происходящих в условном времени-пространстве, рассказчик которых находится за рамками описываемого мира) и мифы о создании мира, появлении человека, деятельности культурных героев. Они эпизодически представлены в книге. Рассматривая образы мифологии тюркоязычных народов, автор обращается к материалам героического эпоса – повествованиям о подвигах фольклорных героев. Вспомогательными источниками для автора служат ритуальные практики: погребально-поминальные и магические обряды, системы народных запретов.
Демонологических персонажей Урала и Поволжья отличает несколько общих характеристик. Во-первых, взаимовлияние финноугорских, тюркских, русских, древнеиранских традиций, отразившееся и на мифологических образах. Эта динамичная связь проявляется в использовании мифонимов, в фольклорных мотивах и сюжетах. По этой причине читатель встретит в книге представления, известные, например, по славянским традициям. Во-вторых, во многих ритуалах и верованиях местных народов наблюдается сочетание условно языческих культов и мировых религий, образов христианской и арабо-мусульманской мифологий. Это взаимодействие проявляется, например, в представлениях о загробном мире, грехах, защитных функциях религиозных символов. Наконец, в-третьих, некоторая нерасчлененность добра и зла в рамках одного образа. В зависимости от местных представлений тот или иной персонаж может иметь несколько ипостасей: от демонической до божественной. Например, общеизвестный в Урало-Поволжье дух керемет (киреметь) может быть как злым демоном, так и объектом поклонения. Мордовская Ведява воспринимается в некоторых текстах как богиня, покровительница рек и озер, а в других сближается с образом злой, вредоносной русалки. Демонические атрибуты могут проявляться не только у заложных покойников, ведьм и чертей. Вне условно низшей мифологии черты фольклорной нечисти присущи и другим персонажам. Читателя не должно смущать упоминание в работе божеств, некоторых персонажей богатырского эпоса, мифических великанов, обычно не ассоциирующихся с нечистой силой, ведь демоническое может проявляться в разных контекстах, можно говорить о разнообразии демонических признаков и отсутствии единого и четкого представления о демонах. Читатель не только познакомится с демоническими существами народов Урала и Поволжья, но и узнает многое о ритуальной стороне культуры, о предписаниях и запретах, о вере в магию, о мифологическом восприятии пространства и времени. Итак, увлекательное путешествие в мир страшных, но чарующих историй начинается.