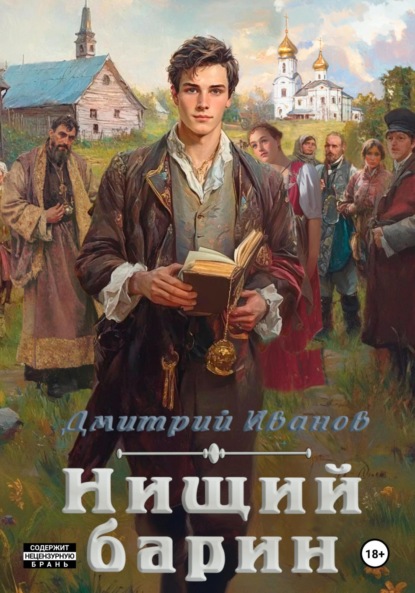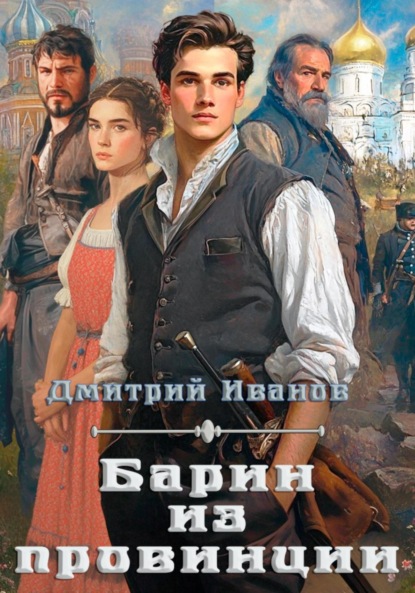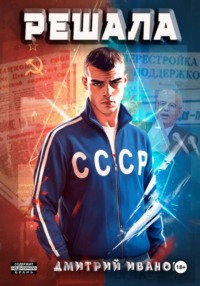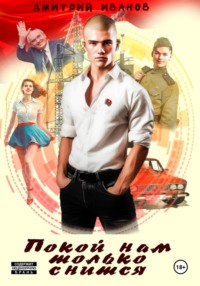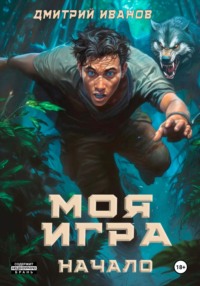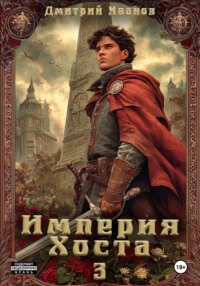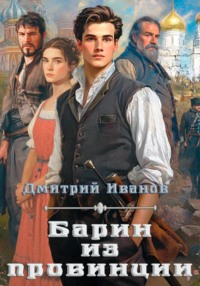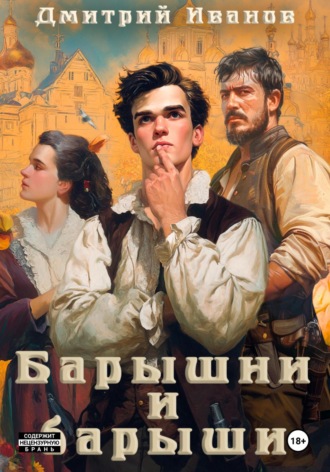
Полная версия
Барышни и барыши

Иванов Дмитрий
Барышни и барыши
Глава 1
Первым делом захотелось убраться отсюда поскорее. Вид окровавленной мордени мужика с саблей вызывал не только брезгливость, но и очень большое желание оказаться где-нибудь подальше. Однако приглядевшись, я понял: этот дядька вряд ли разбойник. Сапоги – добротные, рубаха хоть и залита кровью, но свежая, явно не с чужого плеча. Значит, дело тут нечисто, и могут быть серьёзные неприятности.
Уехать-то проще простого: кто докажет потом, что мы здесь были? Но тонкий, почти жалобный стон заставил меня принять другое решение – пришлось лезть в заросли молодняка. Уже через пару минут выяснилось, что спешили мы не зря: молодая, пухлая девица, судя по порванной одежде и связанным рукам и ногам, нуждалась в помощи.
– Кто вы, милое дитя? – растерянно пробормотал я себе под нос, но меня услышали, и в ответ хлынул поток информации, в общем-то совершенно мне ненужной.
Оказалось: дочка какого-то мелкого церковного чина, служившего в местной семинарии, вздумала сбежать с беглым солдатом. Ну а что, романтика! Тем паче, дезертиров нынче тоже хватает. Вот только реальность оказалась прозаичнее ожиданий: пара разругалась, и барышня вознамерилась воротиться домой. Её возлюбленный, некий Семён – ныне уже покойник по вине моего крепостного – тут уже буквально взревел. И быть бы девице мертвой, как ненужному свидетелю, но повезло… Выкинуть я тару решил в кустики, когда он зажимал ей рот, услыхав меня и мою песенку.
Короче, у нас есть свидетель убийства – одна штука. Она же – жертва насилия, она же – наивная простушка, которой какой-то солдатик голову заморочил. Гм…, а солдатик-то оказался непрост: и план у него был, куда бежать, и припасы прихватил – явно трофейные, причём, скорее всего, у своих же товарищей позаимствованные. Чёрт! А ведь это ещё одна головная боль. Сабля, два пистоля, пожитки какие-то, да ещё и денежки есть. Не бог весть какая сумма, но явно ворованная, ибо откуда у простого солдата, пусть даже не первого года службы, навскидку… серебром рубликов двести?!
У беглянки, кстати, тоже целых двенадцать рублей ассигнациями и мелочью нашлись. Копилку, что ли, разбила, чтобы сбежать из дома? И вот эти богатства она теперь отчаянно пытается всучить нам за своё спасение.
В иной ситуации я, может, и бросил всё к чёртовой матери… А так – выходит, придётся сдаваться. Альтернатива-то какая? Оставить здесь и спасённую дуру, и ворованные ценности, и труп – будь он, зараза, неладен! Нет уж. Выбор один: лапки вверх. В смысле, мне самому идти виниться – не Тимоху же подставлять. Он, конечно, местами ещё тот гад, но, если разобраться, единственный, кому я могу довериться… ну, хотя бы в некоторых вопросах. Да и спас он меня только что, как ни крути.
– Запомни: стрелял я, убил тоже я, – наставляю конюха, который и сам уже понял всю серьёзность ситуации.
– Чёрт… А что тебе за это будет? – угрюмо косится на меня «матёрый убивец», который уже начал отходить от шока.
– Расстрелять не должны… Ладно, хватит паниковать. Смотри лучше по карте – что у нас тут рядом из крупных городов? И чтобы полицейский участок поблизости был.
Подчинённый копается в одной из сумок – там у нас документы и ценности. Мы заранее всё сложили в одну, чтобы в случае чего спасать было проще. Мало ли: пожар в гостинице, налёт или ещё какая напасть. Хвать сумочку – и наутёк.
– Так… Пушкино проехали, Ивантеевку тоже. Софрино рядом, чуток в стороне… А это чьё Пушкино? Того самого? – ворчит Тимоха, раскладывая карту прямо на колесе кареты.
Спасённая Аннушка уставилась на Тимоху с неподдельным удивлением. Барин – барином, тут всё ясно. А вот что крепостной при этом не косноязычный мужлан, а вполне грамотный, да ещё и на короткой ноге со своим хозяином – это её явно озадачило.
– Бенкендорфа то имение, – пояснила девушка. – Но хоть и близко, а вот этого… – она неприязненно скривилась, глянув на труп бывшего возлюбленного, аккуратно завернутого в рогожу и привязанного к задку кареты (откуда, к слову, пришлось снять кучу наших пожитков), – этого надо везти в Сергиев Посад. Батюшка у меня там служит, и рота стоит. Та самая, из которой он, подлец, бежал. Да и с квартальным надзирателем Парамоном Петровичем батюшка хорошо знаком. А при случае даже и к самому архимандриту Филарету в дом вхож.
– Часа четыре, а может, и меньше, – прикинул расстояние по карте ара.
Мы с Тимохой переглянулись. А что? Архимандрит – звучит весомо, квартальный надзиратель – тоже солидно, значит, держим путь в Сергиев Посад.
Спасённая Анна оказалась на редкость болтливой. Может, пережитый стресс сказался, а может, натура у неё такая, но вскорости я уже знал кучу мелких и абсолютно ненужных мне подробностей об этом городишке.
Население – то ли пять, то ли семь тысяч человек, а во время паломничества, мол, и все десять, а то и пятнадцать бывает. Вместо бургомистра, как она сказала, у них мещанское самоуправление – старосты да выборные от общины. Высший надзор держит Московский губернский магистрат вместе с уездной полицией. Гимназии своей нет. Для детей мещан и паломников имелись церковно-приходские школы при лавре, да кое-где частные учителя промышляли.
Но «главные люди» в Посаде – вовсе не чиновники, а архимандриты и настоятели лавры. Впрочем, среди мещан и купцов известные фамилии тоже встречались: Курдюмовы, Коняевы, Барановы – торговые семейства, державшие лавки да гостиницы.
Раздухарившись, пережившая нападение и едва не убитая девица на удивление быстро оклемалась и, проявив завидную гибкость «патриархальной» психики, уже начала стрелять в меня глазками. Хотя какая она девица? Солдат её явно долго охмурял – красивые слова, обещания вольной жизни… Всё уже, небось, у них было. И может, даже брюхата Аннушка. Дома строгость да надзор – вот и решилась на побег. Идиотка.
Едем дальше по Ярославскому тракту, солнце уже клонится к закату. Внезапно за холмами, словно нарисованные на иконе, вырастают белые стены Троице-Сергиевой лавры, и её золотые купола сверкают в вечернем свете. «Ляпота!» – признаю я про себя. Тут, когда дело касается церкви и веры, стараются украсить всё по максимуму – и, надо признать, выходит по-настоящему величественно.
– Но-о-о, матушки, давай, резвее! Вот уж и Посад близко! – и для пущего эффекта щёлкает кнутом в воздухе.Тимоха периодически подбадривает лошадей криками:
С фига ли «матушки», если у нас оба коня – жеребцы?! Причём одного так и зовут – Мальчик.
Дома в Посаде добротные, хоть и деревянные, зато многие – в два этажа. На первых этажах, как водится, либо лавка, либо харчевня. От одной такой, мимо которой мы сейчас проезжали, доносился шум вечерних кабацких гуляний и запах жареной рыбки, вперемешку, кажется, даже с салом. Мой желудок тут же возмутился и заурчал, требуя немедленной «остановки по техническим причинам». Но останавливаться некогда – едем дальше.
Аня, чуя грядущий втык от родни, погрустнела и примолкла, морально готовясь к тому, что дома её будут бить. Причём бить буквально: батюшка, как выяснилось, регулярно воспитывает дочку ремнём – за «живость характера». Эту подробность я тоже вынужден был узнать. Ну, не затыкать же девице рот? Тем более, что она дорогу показывала.
По молчаливому согласию решили: сперва избавляемся от трупа, потом уж – от Анны.
Наконец, карета остановилась у небольшой каменной избы с табличкой «Полицейское управление Посада». Перед входом – два стражника в поношенных мундирах и с алебардами. Похоже, оружие у них скорее для чина, чем для дела. А может это вечерняя стража готовится к обходу.
– Отвязывай этого черта. Рогожу выкинуть придётся – поди, вся в крови.Я, как настоящий барин, неспешно выбрался из кареты, поправил сюртук и отдал распоряжение кучеру:
– Парамон Петрович! Анюта нашлась! Кудеева!– Чего изволите? – хмуро поинтересовался один из стражников, но тут же приметил позади меня Аннушку и, позабыв про чинность, радостно заорал внутрь избы:
Моментально из помещения вылетает коренастый дядька лет сорока, похожий на гнома: ростом невелик, зато плечист и широк, будто шкафчик на ножках. Бороды, впрочем, у него нет – ни у одного из полицейских я такого не встречал, хотя усы и бакенбарды роскошные попадаются часто – знать можно им.
– Беглый из Нижегородского полка. Напал на меня с саблей, в двадцати верстах… Пришлось убить, – обращаю я внимание служащих на себя и киваю на рогожу, которую в данный момент разматывает Тимоха. – Девица при нем была. А ценности, возможно, краденые…
– Убить? – гном моментально напрягся, и лицо у него сделалось хищное, как у ястреба, почуявшего добычу.
Чёрт, лишь бы без проблем… Ну, ладно – в Сибирь не сошлют. А если и сошлют – и там проживу. Ха-ха!.. Впрочем, кроме декабристов сейчас туда и не ссылают никого, даже за дела посерьёзнее.
– М-м-м… ёдрыть твою! – неожиданно выдал «труп», окровавленной башкой ударившись о камень. Видать, мой Тимоха не сильно нежен был с «покойником», которого к тому же побаивался.
– Так он же жив! – удивлённо воскликнул Парамон Петрович.
Окровавленная по самое не хочу морда военного попыталась раскрыть глаза, но не смогла, зато смогла снова выругаться, но уже менее внятно. Сделав этот акт мелкого хулиганства, Семён опять потерял сознание.
– Ничего не понимаю… Два раза в него стрелял! – растерянно оборачиваюсь к квартальному и показываю свой американский пистолет.
– Из этого? – хмыкает пренебрежительно полицейский и приказывает второму стражнику:
– Ероха, за дохтуром беги!
– Тимоха, вещи выноси, что при них были, – машу рукой я кучеру, не зная радоваться или расстраиваться.
Романтичная дурёха Аннушка рассказала по дороге немало – хватило, чтобы окончательно стало ясно: дрянь человек этот Семён. Ей, наивной, не видно, а мне, взрослому и хоть сколько-то критически мыслящему, – очевидно. Оказывается, бежали они в староверческий скит, что в полусотне верст от Москвы. Хотел он её там бросить или нет – неизвестно, но то, что скит Семён обобрал бы подчистую, а старца-отшельника, скорее всего, прирезал – сомнений нет. «Зиму там провести можно. К старику тому никто и не ходит», – проболтался он девушке.
– Жива! – протрубил подоспевший отец Аннушки голосом, которому позавидовала бы пароходная труба.
Из белого духовенства он, это ясно: раз жена имеется – значит, чин невысокий, какой-нибудь приходской священник или диакон. То есть невелика птица. Но выглядит при этом солидно – при полном параде. Может, только что со службы? Длинная борода аккуратно приглажена, волосы уложены, на голове высокая фиолетовая шапка-столбик. Ряса чёрная, и не обычная, мешковатая, а словно приталенная – вот не вру! – да ещё поверх неё широкая накидка из парчи или шёлка с крестами. Чёрт, не знаю, как правильно называется. Ко всему прочему, обувь на вид добротная – не крестьянские лапти.
Слышал я от Аннушки, что её отец преподаёт закон Божий, но вид у него такой, что он и с архимандритом может запросто общаться. Архимандрит, наверное, у попов вроде генерала, если по-военному.
Но в данный момент меня больше обрадовало другое: прежде чем обнять дочку… или, быть может, отвесить ей родительского леща (варианты общения оставим за отцом), батюшка тепло поручкался с квартальным надзирателем. А значит, прессовать и задерживать нас не станут. Скорее всего, сдадим мерзавца Семёна, заночуем здесь – время-то уже позднее, фонари вот-вот зажгут – и двинемся дальше.
Глава 2
– Уж и не знаю, как благодарить тебя, что уберёг моё неразумное дитя от беды, – мягко пробасил Кудеев-старший. – Может, изволите отужинать у нас, сударь?
На дочку он поглядывал без злобы, что было странно: либо привык к её выкрутасам, либо просто устал с ними бороться. Но Аннушка, бедняжка, ежилась под этими, вроде бы ласковыми, отцовыми взглядами. Сразу видно: спросит он с неё, даже если в голосе патока.
– Как благородный человек, не мог иначе поступить, – ответил я, стараясь держать лицо. – Так что не стоит беспокоиться. Тем паче, мне рано утром выезжать, а ночлега ещё не сыскал. Вот уж советом, где с комфортом переночевать можно, вы бы мне оказали самую важную услугу.
– Так там же, где и поужинать предлагаю, – в моём доме! Жена будет рада, – не раздумывая выдал Кудеев.
– Что ж, не стану отказываться, – кивнул я. – Вижу, ваше гостеприимство искреннее.
Ехать недалеко. Улочка оказалась не из лучших, но домик – приличный: уютный, расписной. Прямо-таки пряничный домик. И мама у Ани мне понравилась – сдобная, пахнущая какими-то травами женщина, с глазами черными, как ночь. Я только у негров такие черные глаза видел. Может, цыганка какая?
– Там он у меня как барин почивать будет! Сено – свежайшее, да ещё и рогожку постелили. Словно на перине!Тимохе моему выделили место в овине. Причём Иван Борисыч, отец семейства, особо подчеркнул:
«Перина из рогожки» – ну прямо как «номер-люкс» прозвучало. Я едва не расхохотался. Тимоха же скривился, но промолчал. Знает своё место. Поп – он всё же человек свободный, да ещё и чин духовный, а Тимоха… крепостной. Тут и комментировать нечего.
Посидели, выпили. Я – немного, а вот Иван стесняться не стал: под неодобрительные взгляды жены мы приговорили графинчик в ноль семь. Я ещё раз живописал героическую историю спасения его дочери и выдал собственные соображения насчёт мерзавца – беглого солдата и того, что было бы с несчастным отшельником. Опытный и мудрый священник кивал и соглашался: мол, верно рассуждаешь. Что уж там – судьба его единственной дочери Ани могла бы сложиться ой как печально.
Спать меня уложили в гостевой – угловая комнатка в их пряничном домике. Только собрался лечь, как стук в дверь. Я бы не удивился даже, если б это оказалась Аннушка. Ну, мамаша – вряд ли. Она женщина порядочная, и к концу вечера показала себя во всей красе: сняла маску покорной супруги, следующей заветам домостроя (а есть ли он сейчас?), и чуть ли не тумаками отогнала Ивана от второго шкалика, по размерам нисколько не меньше первого. Эх, тяжела судьба жён алкашей – хоть век XIX, хоть XXI.
– Чё тебе? – спросил я вполголоса, приоткрыв створку маленького оконца и выглядывая наружу.Но оказалось, стучались вовсе не в дверь, а в окно. И это был Тимоха.
– Разговорчик я подслушал нонеча попа по пьяной лавочке, – зашептал Тимоха заговорщицки. – Лето ж нынче, занятий нету, и Кудеев в школу не ходит, дома сидит, что-то строчит для архимандрита Афанасия. Он с ним в дружбе большой, и завтра его вызывают к самому… Так вот, жинка его, попадья или как её там… предложила тебя отвезти к тому Афанасию. Вроде как для благодарности. Он у них главный здесь теперь. Да и крёстный Анечкин, между прочим.
– Ну, неплохо, чё! – согласился я. – А срочность-то какая, чтоб меня среди ночи будить?
– Ой, да ты ведь всё равно не спал! – усмехнулся Тимоха. – В окне видел, как шарохался по комнате. И ещё: ты вот хвастался своими стихами. Журналы показывал, газеты… А архимандрит, говорят, к поэзии страсть имеет, и к иконам. Сам даже их пишет! Последнее время, правда, втихую ещё и сигары покуривает, что ему из столицы привозят. Грех, а курит. Так вот… хрен с ними, с сигарами. Но такое знакомство нам полезно будет! Предлагаю задержаться на денёк!
– Сам писал что – стихи или иконы? – не понял я сбивчивую речь конюха.
– Да какая нам разница?! – отмахнулся тот.
«Нам!» – ишь ты, шельмец. Ну реально – «нам». Совсем себя от меня не отделяет, словно мы уже акционерное общество «Барин и Тимоха».
«А архимандрит, конечно, полезен будет – чин у него солидный, и вес в обществе немалый!» – размышляю я, ворочаясь на перине. Перина, хоть и удобнее, конечно, чем Тимохина солома в овине, но всё ж до моей московской, столичной, что сам выбирал в лавке, не дотягивает. А может, у них в доме так и задумано – плоть усмирять? Так сами бы и усмиряли, гостям-то зачем предлагать?
А что сигары курит… да кто ж сейчас о вреде курения задумывается? Ерунда это, короче… или всё-таки не ерунда?!
Я, честно сказать, сигару видел всего раз в поместье Мишина – какой-то офицерик курил. Особо внимания тогда не обратил: в продаже их всё равно нигде нет, и в здешнем быту они не встречаются. Папирос тоже ни разу не видел! А уж про сигареты и говорить нечего – тут, похоже, ещё и слова такого не знают.
Табак юзают дедовскими методами: крестьяне да солдаты – глиняными трубками, а офицеры и вся знать почти поголовно его нюхают. Табакерки есть у каждого! От простеньких жестяных до изысканных золотых, с эмалью и каменьями. Табак, разумеется, весь привозной. Ну и кальяны пару раз встречал… или что-то очень на них похожее.
В голове зарождается неясная пока мысль. Поймать суть не могу. Встаю, опять зажигаю свечу, достаю свой саквояж… Роюсь, нахожу – белая, тонкая писчая бумага, то ли из Франции то ли из Испании. Пойдёт ли она например на папироску? Можно попробовать. У нас, в России, такую тоже делают, видел в лавке оберточную тонкую, и для писем делают…, но качество импортной лучше.
Да чё я парюсь? Знаю ведь, что народ и в газеты заворачивал самокрутки – и ничего, курили. Но почему папироски тут не пользуются спросом? Может, и правда ещё не выдумали? Бл-и-и-ин!
Сигара, что сигара? Она и тут, и потом – просто табак в табачный же лист завернутый. Дело нехитрое. А вот с сигаретами и папиросами есть свои хитрости. Для сигарет нужен табак мелко нарезанный, однородный. Сложность в том, что сорта разные: один крепче, другой мягче, третий горит, как трут. Вот и приходится их купажировать – мешать в нужной пропорции. Ещё хитрость припомнил – ароматизаторы можно добавить: ром, ваниль, розовую воду, мёд, пряности. И вкус будет мягче, и грубый запах приглушится.
Я в своё время курил всё подряд: и трубки, и кальян, и сигары. Интересовался этим всерьёз. Вроде хобби у меня это было. Но лет десять до моего попаданства сюда завязал, слава тебе, Господи. После случая, когда в морге воочию увидел лёгкие курильщика – чёрные, будто закопченные, и рядом бело-розовые лёгкие его некурящего ровесника. Вот тогда и бросил. Хотя, если подумать: а какая, собственно, разница, если оба в одном возрасте в ящик сыграли? Тьфу, не об этом речь…
Так вот, бумага должна была медленно и ровно гореть, а это непросто: слишком плотная бумага будет гаснуть, слишком рыхлая «стрелять» искрами. Помню, что в бумагу добавляют селитру, нитрат калия, чтобы она горела вместе с табаком. А сама бумага делалась из льняных или конопляных волокон, иногда из хлопка.
А спрос на это добро точно будет! Моя чуйка бывшего бизнесмена не подводит. И рекламу можно раскрутить – хоть агрессивную, хоть «вирусную», то бишь сарафанное радио. Да и сетевой маркетинг с крестьянами попробовать замутить. Что-то типа: «Купи папироску – получи возможность втюхать соседу ещё три». Но всё же лучше ориентироваться на покупателей посостоятельнее. Там барыши жирнее, да и торговаться меньше будут.
Блин, чем я вообще тут занимаюсь? Стишки, бабы… А денег-то пока ни копейки не заработал, хотя возможности есть! Наверное, при переносе сознания мозги не сразу возвращаются, вот и сижу, туплю.
Составляю предварительный бизнес-план. Мундштук – мысль отличная: и дым охлаждает, и табак в зубы не лезет. Сделать можно хоть из картона, хоть из плотной бумаги. И главное – никакой фабрики или машин для начала производства не надо. Научу своих крепостных – пусть зимой вручную вертят.
Уснул уже заполночь, ворочая в голове эти свои «гениальные» идеи.
– Отчего ж не поехать? Я только рад буду, – соглашаюсь я за завтраком нанести визит наместнику Троицкой лавры. – Вот только подарок бы какой надо. А у меня ничего и нет с собой.
– Иконы он уважает. Сам пишет – у нас при лавре школа иконописная имеется. Но пойди, сыщи такую, чтоб ему пришлась по сердцу, – размышляет Иван Борисович. – Разве что…
– А ведь есть у меня одна иконка, сейчас покажу, – перебиваю священника и, порывшись в своём саквояже, достаю завёрнутую в бумагу икону.
Купил я для своей церкви, заранее припас подарочек. Недёшев, конечно, но Елизавета Хитрово врать бы не стала – уверяла, что вещь ценная. Когда покупал, как раз с ней в лавке столкнулся и получил совет. Отдал семьдесят рубликов серебром – и это за икону без дорогого оклада, вполне простую на вид.
Продавец ещё уверял, что вещь универсальная: мол, и старообрядцам можно подарить – не побрезгуют. «Сергий Радонежский какой-то… или, вернее, ему кто-то явился», – вот примерно так я и запомнил. Ну а что вы хотите – мозг человека XXI века в таких тонкостях разбирается плохо.
– Ба! Так это же наша икона! У нас писана! Наши иконы редко за пределы лавры уходят. Это икона Явления Богоматери преподобному Сергию Радонежскому!Зато Иван Борисыч сразу оживился:
– В каком смысле «ваша»? – напрягся я. А ну как ворованную купил?
– Да писал её наш монах-иконописец Игнатий Басов, ученик знаменитого мастера Павла Казановича, – пояснил Иван Борисович. – Покойные оба ныне… упокой, Господи, их души.
Сказав это, поп широко перекрестился, и я, как попугай, за ним.
– А эту тогда почему продали? Не украли же её, надеюсь? – допытываюсь я.
– Нет, эту можно было… Разве что в дар кому-то передали. Очень важная для нас икона. Есть и другие подобные, но эта старая и от хорошего мастера.
– А чем она так важна? – я успокоился и спросил уже с любопытством.
– Хм… Сергий Радонежский – чудотворец, первый наш игумен в лавре. Ты ведь наверняка знаешь про него? Парень ты неглупый, образованный, вижу, – прищурился Иван Борисович.
– Игумен земли русской, – припомнил я слышанное где-то.
– Вот именно! И к нему сама Богоматерь явилась. Не чудо ли это?! Для лавры и всего Сергиева Посада – главное свидетельство её покровительства нашему монастырю.
– Понятно. Значит, хороший подарок? А я всё переживал – маленькая она, без дорогого оклада…
– Понравится, понравится, не сумлевайся! – отмахнулся Иван Борисович. – Ну что, идём в лавру-то?
– Зачем идти? Карета уж готова! – услужливо предложил я.
– Можно и ногами, я привычный, – усмехнулся священник. – Но и вправду далече нам… поедем.
По словам Ивана Борисовича, икон за год получается написать немного: если пять штук выйдет – уже хорошо. Да и все они, в основном, для внутреннего потребления лавры. А такая, как эта, обычно преподносится в благословение почётным паломникам.
Сергиев Посад сам по себе городок небольшой, но, даже если смотреть глазами человека из будущего, то богатство архитектуры тут поражает. Кроме Троицкого собора, который я, кстати, узнал по памяти – хотя никогда тут раньше не бывал (или мне так только показалось, что узнал?) – есть ещё несколько жемчужин: Успенский собор – тоже знакомый по картинкам будущего, Церковь Сошествия Святого Духа – белокаменная, красивая, стройная, Церковь Рождества Иоанна Предтечи над Святыми вратами, Церковь Смоленской иконы Божией Матери. Последние две не на слуху, однако Кудеева не перебиваю – интересно слушать.
Есть тут и колокольня – высоченная, пятиярусная. На глаз прикинул: если в метры перевести, так больше восьмидесяти выйдет! Кроме неё, на улицах Посада мне попадались ещё купола других храмов, например у рынка – Церковь Воскресения Словущего… Что это означает, я уточнять не стал, а память моя молчит. А ведь учил, Лёшенька, учил!
Архимандрит Афанасий жил в Наместнических покоях – здание в южной части монастыря, неподалёку от Успенского собора, рядом с патриаршими кельями. Туда мы и направились.
Гложет меня только одно. Кудеев заранее объяснил, как мне представляться наместнику: имя, отчество, фамилия, помещик такой-то, всё чин по чину. Имя и отчество у меня нормальные, а вот фамилия… подкачала! Не сказать чтоб позорная, но уж точно неблагозвучная. И деревенька у меня в придачу такая же – местные костромские привыкли, а вот в Москве я её названия старался лишний раз вслух не произносить.
Глава 3
Деревенька моя называлась незатейливо – Задово. Да не просто Задово, а Голозадово! И соответственно, фамилия моя – Голозадов. Хотя, всё было наоборот: именно от нашей фамилии и пошло название местного населённого пункта.
Откуда такая странная фамилия? Пардон, но тут постарались мои предки. Дело в том, что дворянство нашему роду пожаловали ещё в шестнадцатом веке, и двести с лишним лет мы гордо носим эту фамилию. Ну, пошутили казачки, любили они подобное… Но дворянство выслужили на Дону честно, да и их потомки честь рода не уронили.
Так что фамилией своей я, конечно, стеснялся, хотя на фоне иных… она ещё ничего. Тот же Свиньин – будущий муж Амалии – имеет вполне приличную фамилию. А вот в нашей Костромской губернии есть помещики: Гнус, Бляблин, Кретинин, Жирносеков. Да и мой однокашник по гимназии Жопкин недалеко от меня ушёл – а мы и сидели вместе. В нашем классе числился ещё Иван Вагина – и над ним, странное дело, никто не подшучивал. Может, слова такого в здешних словарях нет, но я-то знаю, что есть.