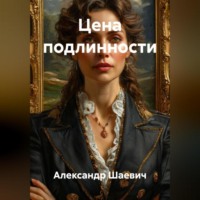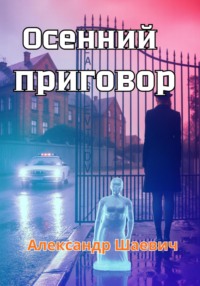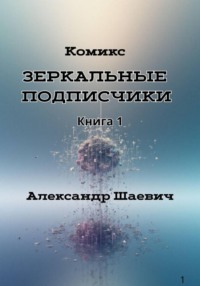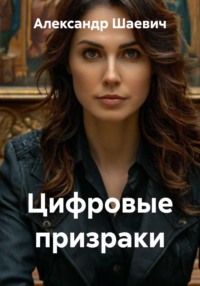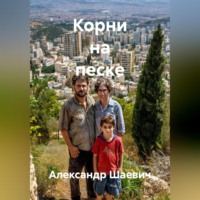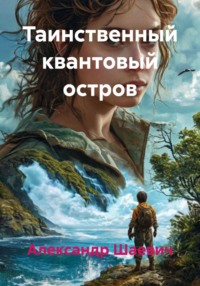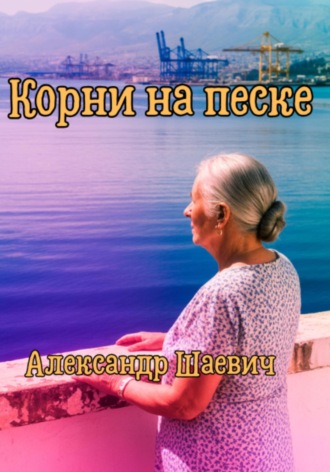
Полная версия
Корни на песке

Александр Шаевич
Корни на песке
Введение
Конец восьмидесятых – начало девяностых. Советский Союз рушился. Не внезапно, не в одночасье – медленно, мучительно, как умирает огромное дерево, корни которого гнили десятилетиями. Перестройка обещала свободу, но принесла хаос. Полки магазинов пустели, рубль превращался в бумажку, а будущее растворялось в тумане неопределенности.
Для советских евреев этот крах стал особенно болезненным. Они и раньше чувствовали себя людьми второго сорта – пятая графа в паспорте напоминала об этом ежедневно. Высшее образование? Пожалуйста, но не на престижные факультеты. Партийная карьера? Извините, но ваша национальность… Академическая наука? Только если вы гений, и то не везде.
Теперь, когда старые барьеры рушились, вместо облегчения пришел страх. На улицах зазвучали лозунги, от которых холодело сердце: "Бей жидов – спасай Россию!" Памфлеты общества "Память" расклеивались на подъездах, а в газетах появились статьи о "жидо-масонском заговоре". То, что еще недавно шептали на кухнях, теперь кричали с трибун.
Экономический кризис бил по всем, но евреев делал особенно уязвимыми. Их обвиняли в спекуляции, когда они пытались выжить в условиях развалившейся плановой экономики. Их обвиняли в богатстве, когда они жили в тех же коммуналках и получали те же зарплаты. Их обвиняли в космополитизме, когда они просто хотели, чтобы их детей не травили в школе за происхождение.
Антисемитизм, который при советской власти загонялся вглубь, вырвался наружу с удвоенной силой. В Ленинграде громили еврейские культурные центры, в Москве избивали студентов-евреев, в провинции на стенах домов появились свастики. Старики вспоминали довоенные погромы и говорили: "Мы это уже видели."
А тут еще открылись границы. Впервые за семьдесят лет советские евреи получили право уехать – не бежать, не эмигрировать тайком, а просто взять и уехать. В Израиль, где их ждали как братьев. В Америку, где обещали свободу. В Германию, которая каялась за Холокост.
Но решение уехать давалось нелегко. Здесь, в этой суровой земле, лежали их деды и прадеды – те, кто пережил революцию и коллективизацию, кто сражался с фашистами и строил заводы. Здесь была их культура, их язык, их корни, уходящие в глубь веков. Многие говорили: "Куда мы поедем? Мы же русские евреи!"
Но страх оказался сильнее привязанности к могилам предков. Страх за детей, которые каждый день возвращались домой с синяками и слезами. Страх за будущее в стране, где национализм становился государственной идеологией. Страх перед новыми 1930-ми годами, которые, казалось, вот-вот наступят.
Поэтому в начале девяностых сотни тысяч советских евреев собирали чемоданы. Они не бежали к мечте – они бежали от кошмара. Не искали землю обетованную – искали место, где их детей не будут бить за национальность. Не стремились к сионистскому идеалу – стремились к элементарной безопасности.
Каждая семья делала этот выбор по-своему, но делали все одинаково: с болью, с надеждой и с пониманием того, что назад дороги уже не будет. Корни останутся в земле, которую они покидают. Новые корни придется пускать в песке далекой страны, где говорят на незнакомом языке и живут по чужим законам.
Это история одной такой семьи.
Глава 1. Вид на Кармель
Софья стояла на балконе маленькой квартиры в Кирьят Элиэзер и смотрела на море. Хайфский залив расстилался внизу, словно помятая синяя простыня, которую кто-то небрежно бросил между зелёными холмами. Порт дымился вдалеке – краны двигались, как гигантские журавли, перебирающие невидимую пищу. А за спиной возвышался Кармель – древняя гора, покрытая сосновым лесом, который, по словам соседки, посадили ещё в тридцатые годы.
– Баба Соня, – окликнула её семилетняя Машенька, выскакивая на балкон, – почему ты всё время смотришь на воду?
Софья обернулась. Внучка говорила уже со слегка израильским акцентом – резковато, с придыханием на согласных. Всего полгода в стране, а язык меняется быстрее, чем растут волосы.
– Просто думаю, доченька.
– О чём?
Как объяснить ребёнку, что она думает о расстоянии? Не о километрах от Москвы до Хайфы – о другом расстоянии. О том, которое измеряется не спидометром, а чем-то внутри, в груди. Расстояние между тем, кем ты была, и тем, кем должна стать. Между могилой мужа на Ваганьковском кладбище и этим чужим морем, которое каждое утро напоминает, что ты теперь здесь.
– О том, как корабли плывут, – сказала Софья. – Видишь, какие большие?
Машенька прижалась к перилам, высунув голову между прутьями решётки. Детскую отвагу не остановишь никакой высотой.
– А что они везут?
– Разное. Может быть, где-то там плывёт корабль с новыми людьми, которые тоже приехали сюда жить.
– Как мы?
– Как мы.
Машенька подумала, серьёзно наморщив лоб.
– А им тоже страшно?
Софья посмотрела на внучку – светлые кудри растрепались на ветру, глаза широко открыты. Ребёнок понимает больше, чем кажется. Дети всегда понимают больше.
– Немножко страшно, – призналась Софья. – Но это хорошо. Когда немного страшно, значит, что-то важное происходит.
Из квартиры донёсся голос Андрея, её сына:
– Мама, идём! Опоздаем в мисрад а-клита.
Мисрад а-клита. Министерство абсорбции. Какое странное слово – "абсорбция". Словно они химические элементы, которые нужно растворить в местном растворе. Софья представила себя губкой, которую опускают в миску с незнакомой жидкостью. Впитывай, приспосабливайся, становись частью.
– Иду, – отозвалась она.
Машенька убежала в комнату, а Софья задержалась на балконе ещё на минуту. Внизу, во дворе, другие дети играли в футбол. Кричали на иврите, на русском, на каком-то смешанном языке, который рождается сам собой, когда встречаются два мира. Мальчик лет десяти, явно из русскоговорящей семьи, орал своему партнёру: "Кан! Кан!" – здесь, здесь! А тот отвечал по-русски: "Лови!"
Так и живём, подумала Софья. Слова из разных языков, чувства из разных жизней. Корни из одной земли, а плоды должны расти в другой.
В очереди в мисраде а-клита стояло человек тридцать. Русская речь мешалась с ивритом, грузинским, английским. Кто-то читал газету "Вести" – русскоязычную израильскую, кто-то изучал бланки с непонятными буквами. Пожилая женщина в углу шептала молитву, и Софья не могла понять, на каком языке – то ли на идише, то ли на иврите.
– Номер 47? – крикнул служащий в окошке.
Андрей подошёл к окну с пачкой документов. Софья осталась сидеть на пластиковом стуле и наблюдала. Её сын – статный, сорокалетний мужчина с инженерным образованием – выглядел здесь растерянным школьником. Объяснял что-то на ломаном английском, тыкал пальцем в справки, кивал, не понимая половины слов.
Раньше он был начальником отдела в московском НИИ. Подчинённые звали его Андрей Семёнович. Теперь он – безработный репатриант с номером в очереди.
– Ма шлошá? – спросил служащий.
Андрей беспомощно пожал плечами.
– Какая у вас специальность, – перевела сидевшая рядом женщина. – Он спрашивает, какая у вас специальность.
– Инженер-механик, – ответил Андрей по-русски.
– Мехендес, – подсказала женщина. – Скажите – мехендес механи.
Служащий что-то записал и протянул новую бумагу.
– Ульпан, – сказал он отчётливо. – Ульпан ле-иврит.
Курсы иврита. Софья знала это слово. Андрей ходил на ульпан уже месяц, но язык давался ему с трудом. В пятьдесят лет мозг не такой гибкий, как в двадцать. А может, дело не в мозге, а в сердце? Трудно учить язык, если не веришь, что он когда-нибудь станет твоим.
– Мама, – Андрей вернулся с бумагами. – Тебе тоже нужно записаться на ульпан.
– Зачем мне? – Софья покачала головой. – Мне уже шестьдесят восемь. Какой ульпан?
– Мама, ты же будешь здесь жить.
– Буду. Но на русском.
Андрей вздохнул. Этот разговор они уже вели не раз.
– В магазин ходить нужно. К врачу. С соседями разговаривать.
– В магазине покажу пальцем. К врачу пойдёшь со мной. А с соседями… – Софья улыбнулась грустно. – С соседями поговорю глазами. Глаза – международный язык.
Домой ехали на автобусе. Хайфа – город вертикальный, дома карабкаются по склонам, как туристы на гору. Автобус петлял между улицами, и Софья смотрела в окно на незнакомую жизнь. Вот торговец на углу выкладывает фалафель в лаваш. Вот группа солдат в зелёной форме смеётся у остановки – совсем молодые, Машенькины годы. Вот старик в кипе читает газету на скамейке, губы движутся беззвучно.
Все живут своей жизнью. У каждого есть место в этом мире. А у неё?
– Савта! – Машенька подбежала к ней, как только они вошли в квартиру. – Смотри, что я выучила!
Внучка встала по стойке смирно и торжественно произнесла:
– Хатиква! Хатиква шнот элапайим, лийот ам хофши бе-арцену…
Израильский гимн. На чистом иврите, без акцента.
Софья почувствовала, как что-то сжимается в груди. Не гордость – что-то более сложное. Радость, смешанная с потерей. Внучка поёт гимн чужой страны как родной. И это правильно – для неё это уже родная страна. Но почему тогда так больно?
– Красиво, доченька, – сказала она. – А что означает "хатиква"?
– Надежда, – ответила Машенька. – Мора Рахель сказала, что это слово означает "надежда".
Надежда. Софья повторила про себя это слово – сначала на иврите, потом на русском. В русском оно звучало знакомо, тепло, как старое одеяло. В иврите – остро, требовательно, как вопрос без ответа.
Вечером, когда дети легли спать, а Андрей ушёл к соседям смотреть футбол по телевизору, Софья достала из шкафа старый чемодан. Кожаный, потёртый, с заклёпками довоенного образца. Он ехал с ней из Москвы, и в нём лежало самое главное.
Письма. Пожелтевшие треугольники военной почты. Фотографии в картонных рамочках. Дневник в клеёнчатой обложке. Медаль "За отвагу" в маленькой коробочке.
Софья взяла в руки одно из писем. Почерк размыт временем, но она помнила каждое слово наизусть:
"Милая моя Сонечка! Вчера шёл дождь, и я всё думал о твоих глазах. Они такие же серые, как небо над нашей батареей. Когда война кончится, мы поедем к морю. Ты говорила, что никогда моря не видела. Я покажу тебе море…"
Давид. Её первая любовь, первое письмо, первое обещание. Он погиб под Сталинградом зимой сорок второго. А она прожила всю жизнь, вышла замуж за хорошего человека, родила сына, стала бабушкой. И вот теперь сидит у моря, которое он хотел ей показать. Только не у того моря.
Хайфский залив ничего не знал о лейтенанте Давиде Гольдштейне. Не знал о блокадном Ленинграде, о сталинградских развалинах, о девочке Соне, которая ждала письма и боялась похоронок. Это море помнило свои войны, свои потери, своих героев. У него была своя история, свои мёртвые.
А её мёртвые остались в другой земле.
Софья открыла дневник. Первая запись была сделана ещё в Москве, в день, когда пришло разрешение на выезд:
"15 марта 1991 года. Вчера Андрей принёс документы из ОВИРа. Едем. Не знаю, что чувствую. Радость? Страх? Предательство? Как можно оставить могилу Семёна? Как можно оставить могилу Давида? Но как можно не оставить, если Машенька в школе каждый день приходит в слезах? Вчера её назвали жидовкой на уроке физкультуры. Ей семь лет. Семь лет, и она уже знает, что такое ненависть."
Теперь Машенька пела израильский гимн. Ходила в израильскую школу. Играла с израильскими детьми. И никто не называл её жидовкой. Но почему тогда так тяжело на сердце?
Софья взяла ручку и написала новую запись:
"12 октября 1991 года. Хайфа. Полгода в Израиле. Машенька выучила гимн. Андрей ходит на ульпан. Я смотрю на море и думаю о корнях. У дерева корни в земле. А у людей? Мои корни остались в русской земле, вместе с могилами. А здесь я пытаюсь пустить новые корни в песке. Но песок – он ведь сыпучий. Можно ли пустить корни в том, что не держится?"
На следующее утро к ним пришла Фира Моисеевна, соседка из квартиры напротив. Маленькая, энергичная женщина лет семидесяти, она приехала из Одессы ещё в восьмидесятые и считалась в доме экспертом по выживанию в Израиле.
– Сонечка, – сказала она, усаживаясь на кухне с чашкой чая, – ты что, ульпан не ходишь?
– Не хожу.
– Ай, как же так? Язык – это самое главное! Без языка ты здесь как глухонемая.
– Фира Моисеевна, мне почти семьдесят лет. Какой язык?
– Вот именно! – Фира стукнула ложечкой по чашке. – Тебе семьдесят, а мне семьдесят пять! И что же, сидеть сложа руки? Я, когда приехала, три года в ульпане училась. Теперь свободно говорю. И с врачами, и с чиновниками, и в магазине, и с соседями-арабами.
– А зачем? – спросила Софья. – У меня сын есть, он переводит.
– Сын! – Фира махнула рукой. – Сын женится, у него свои дети будут. А ты что, до ста лет на нём висеть будешь? Да и потом, Сонечка, – она понизила голос, – здесь другая страна. Здесь нужно быть самостоятельной. Здесь бабушки в семьдесят лет на автобусах ездят, на пляж ходят, в театры. А ты сидишь дома и на море смотришь, как на картинку.
Софья молчала. Фира была права, но правота не делала её слова менее болезненными.
– Знаешь что, – Фира встала, – завтра берём тебя в нашу группу. У нас по вечерам клуб русскоговорящих. Чай пьём, в домино играем, новости обсуждаем. Хоть с людьми пообщаешься.
– Не знаю…
– Не знаешь, не знаешь! А жизнь проходит. Давид твой – царство ему небесное – он бы хотел, чтобы ты дома сидела и кисла?
Софья вздрогнула. Откуда Фира знает о Давиде?
– Ты же говорила, – объяснила соседка, заметив её удивление. – В первые дни, когда приехали. Рассказывала про войну, про жениха, что погиб.
Да, наверное, говорила. В первые недели она много говорила – от стресса, от одиночества, от необходимости выплеснуть то, что накопилось за полвека молчания.
– Так вот, – продолжила Фира, – он бы хотел, чтобы ты жила. А не существовала.
После ухода Фиры Софья снова вышла на балкон. Солнце клонилось к закату, и море меняло цвет – из синего в золотистое, из золотистого в красное. Кармель темнел, превращаясь в силуэт на фоне неба.
Внизу во дворе играли дети. Машенька была среди них – бегала с мячом, кричала что-то на иврите. Её русские косички развевались на ветру, но смех был уже местный – отрывистый, звонкий.
Андрей сидел на скамейке с соседом-репатриантом из Ленинграда. Обсуждали работу, зарплаты, цены на жильё. Строили планы, как все новоприбывшие. Мечтали о том времени, когда перестанут быть новоприбывшими.
А она? Что она строит?
Софья достала из кармана письмо Давида. Перечитала ещё раз обещание о море. Потом посмотрела на хайфский залив, где догорали отблески заката.
"Милый мой, – сказала она беззвучно, – вот я и у моря. Не у того, что ты хотел мне показать, но у моря. И знаешь что? Море везде одинаковое. Солёное. Бесконечное. И оно помнит всё – и наши войны, и чужие, и те, что ещё будут. Может быть, память – это и есть корни? Не в земле, а в сердце?"
Ветер с моря принёс запах соли и водорослей. Где-то внизу мать звала ребёнка домой – на иврите, но в голосе была та же тревога, что и у русских матерей. Материнство не переводится.
– Савта! – Машенька вбежала на балкон, раскрасневшаяся от игры. – А ты знаешь, что "савта" по-русски будет "бабушка"?
Софья улыбнулась.
– Знаю, доченька.
– А "баба" по-арабски тоже "папа"! Мне Ахмед рассказал. Мы с ним друзья, хотя он араб.
Ребёнок легко переходит границы, которые взрослые строят годами. Для него нет "мы" и "они" – есть просто люди, с которыми интересно или скучно.
– Хочешь, завтра пойдём на пляж? – предложила Софья.
– Правда? – глаза Машеньки засветились. – А ты купаться будешь?
– Посмотрим.
– А можно, я тебе покажу, как плавать по-израильски?
– А как это – по-израильски?
– Быстро и громко! – засмеялась Машенька.
Тем вечером, когда все легли спать, Софья открыла дневник и написала:
"Сегодня поняла что-то важное. Корни – это не только то, что держит. Корни – это ещё и то, что питает. Мои корни в России питали меня полвека русской культурой, русской болью, русской любовью. Теперь я здесь. И, может быть, нужно не искать новые корни в песке, а научиться питать этой землёй то, что во мне уже выросло?
Машенька поёт израильский гимн, но смеётся по-русски. Андрей учит иврит, но думает по-русски. А я? Я храню русскую память в израильском доме. И, может быть, это тоже вариант?
Завтра пойдём на пляж. Покажу внучке, как плавать по-русски – медленно и задумчиво. А она покажет мне, как плавать по-израильски – быстро и громко. И, может быть, вместе мы найдём третий способ – просто человеческий."
Она закрыла дневник и посмотрела в окно. Хайфа засыпала, огни в окнах гасли один за другим. Кармель стоял тёмной стеной против звёздного неба. Где-то там, в сосновом лесу, росли деревья, посаженные людьми, которые тоже когда-то были новоприбывшими. Тоже искали своё место в этой земле.
А море дышало вечным дыханием, не зная границ и виз, не деля людей на своих и чужих. Оно помнило финикийцев и крестоносцев, турков и британцев, арабов и евреев. Помнило и не судило. Просто принимало всех, кто приходил к его берегам.
Может быть, думала Софья, засыпая, море и есть ответ на вопрос о корнях. Море никому не принадлежит и принадлежит всем. И корни человека – не в конкретной земле, а в способности любить, помнить и надеяться. На любом языке, в любой стране, под любым небом.
Хатиква. Надежда.
За окном шумели волны, укачивая Хайфу как колыбель.
Глава 2. Инженер-никто
Андрей вышел из здания мисрад а-клита, и хайфское солнце ударило ему в лицо, как пощёчина. Октябрьская жара в этой стране была жестокой – не как московское лето, мягкое и влажное, а сухой, безжалостной. Воздух дрожал над асфальтом, превращая улицу в мираж, в котором люди и машины плавали, словно рыбы в раскалённом аквариуме.
Он сжал в руке очередную справку на иврите – бумагу, которая подтверждала, что Андрей Семёнович Розенберг, кандидат технических наук, заведующий отделом гидравлических систем московского НИИ "Гидромаш", теперь официально никто. Его двадцатилетний опыт, три патента и диссертация по турбулентным потокам в замкнутых системах превратились в нечитаемые буквы на дипломе, который здесь никому не нужен.
– Мехендес, – сказал ему служащий в окошке, – ата цариа лануса ле-маават.
Инженер, вам нужно попробовать учиться заново. Сорокалетнему мужчине с высшим образованием предлагали пойти в колледж. Изучать основы инженерного дела на языке, которого он не понимал. Стать студентом в возрасте, когда его московские коллеги уже думали о пенсии.
Андрей остановился на автобусной остановке и посмотрел на толпу людей вокруг. Русская речь мешалась с ивритом, арабским, английским. Репатрианты из разных волн – одни приехали в семидесятые, другие в восьмидесятые, третьи, как он, в девяностые. У каждой волны был свой цвет отчаяния, своя степень приспособления.
Пожилая женщина рядом с ним бормотала что-то себе под нос на идише. Молодой парень в джинсах громко разговаривал по телефону на русском, но с израильскими словечками: "Слушай, бефемет, надо встретиться у кафе на Кикар а-Медина…" Дети играли в футбол, перескакивая с языка на язык посреди предложения: "Пас сюда! Регель левел! Давай быстрее!"
Языковая какофония. Вавилонская башня наоборот – не Бог смешал языки, а люди сами принесли их сюда, в эту жаркую землю, и теперь пытались построить что-то общее из хаоса слов.
Автобус ехал медленно, петляя по хайфским улицам. Андрей смотрел в окно и вспоминал Москву. Не холодную, не серую – тёплую московскую осень, когда листья в Сокольниках желтели постепенно, не торопясь, а воздух пах дымом из труб и свежим хлебом из булочной на углу.
Вспоминал свой кабинет в НИИ – большие окна на юг, стеллажи с техническими журналами, чертёжную доску у стены. На столе стояла фотография жены и детей, а рядом лежала визитка: "А.С. Розенберг, заведующий отделом". Подчинённые заходили к нему с докладами, спрашивали совета, называли Андрей Семёнович. Он был кем-то. Его мнение что-то значило.
Теперь он сидел в израильском автобусе и не понимал, о чём говорят пассажиры. Не мог прочитать название остановки. Не мог спросить дорогу. Сорокалетний ребёнок в чужой стране.
"Может быть, мама была права?" – подумал он. – "Может быть, не стоило ехать?"
Но потом вспомнил Машенькино лицо в слезах, когда она пришла из московской школы. Вспомнил, как одноклассники дразнили её "жидовкой", как учительница делала вид, что не слышит. Вспомнил очереди за хлебом, пустые полки в магазинах, разговоры соседей о том, что во всём виноваты евреи.
Нет, выбора не было. Здесь, по крайней мере, его дочь могла ходить в школу, не опуская глаз. Здесь она могла гордиться тем, что она еврейка, а не стыдиться этого.
Но цена… Цена оказалась выше, чем он думал.
Квартира в Кирьят Элиэзер встретила его знакомым хаосом. Двухкомнатная, тесная, с тонкими стенами, сквозь которые слышались голоса соседей на трёх языках. Мириам сидела на кухне с красными от слёз глазами и резала овощи для салата. Движения её были резкие, злые – лук страдал за все их несчастья.
– Ну как? – спросила она, не поднимая глаз.
– Как всегда, – Андрей повесил куртку на крючок. – Нужно идти на переквалификацию.
– Переквалификацию! – Мириам швырнула нож на разделочную доску. – Ты инженер с двадцатилетним стажем! У тебя кандидатская степень!
– Здесь это никого не волнует.
– А что нас волнует? – В голосе жены звучала усталость, которая накопилась за месяцы бесплодных попыток устроиться. – Денег нет, работы нет, языка не знаем. Дети в школе мучаются…
– Как мучаются? – Андрей насторожился. – Что случилось?
Мириам вздохнула.
– Витя сегодня подрался. Сказал, что одноклассники смеются над его ивритом. А Маша… – она помолчала. – Маша заявила, что больше не хочет говорить дома по-русски. Сказала, что это язык неудачников.
Андрей почувствовал, как что-то сжимается в груди. Дети. Они приспосабливались быстрее всех, но какой ценой? Отказ от родного языка – это не адаптация, это ампутация части души.
– Где они сейчас?
– Витя делает уроки. Маша с друзьями во дворе.
Андрей прошёл в детскую. Витя, четырнадцатилетний подросток, сидел над учебником иврита, и на его лице было выражение человека, решающего неразрешимую задачу.
– Привет, сын.
– Шалом, аба, – ответил Витя, не поднимая головы.
"Аба" – папа на иврите. Ещё недавно он был "папой", потом стал "пап", а теперь уже "аба". Язык менялся быстрее, чем времена года.
– Как дела в школе?
– Нормально.
– Мама сказала, что ты дрался.
Витя поднял глаза – в них была злость, но не детская, а какая-то взрослая, уставшая.
– Они смеются над тем, как я говорю. Говорят, что я "русак". Что мне делать – молчать?
Андрей сел рядом с сыном на кровать.
– Знаешь, в Москве я руководил отделом из пятнадцати человек. Все меня уважали. А здесь я каждый день хожу по конторам и чувствую себя идиотом. Не понимаю, что мне говорят. Не могу объяснить, чего хочу.
– Тогда зачем мы приехали? – спросил Витя.
Вопрос прямой, детский и потому особенно болезненный.
– Чтобы у вас было будущее.
– Какое будущее? Я не знаю языка, у меня нет друзей, в школе я отстаю по всем предметам, кроме математики.
– Выучишь язык. Найдёшь друзей.
– А ты? Ты тоже выучишь язык и найдёшь работу?
Андрей помолчал. Честный ответ был слишком горьким для четырнадцатилетних ушей.
– Постараюсь.
Вечером к ужину собралась вся семья. Мать, Софья, молчала, ковыряя вилкой салат. Мириам подавала котлеты с кислым лицом. Дети ели, переговариваясь между собой на иврите.
– Говорите по-русски, – попросил Андрей.
– Зачем? – Маша, двенадцатилетняя девочка с серьёзными глазами, посмотрела на него с вызовом. – Мы живём в Израиле. Здесь говорят на иврите.
– Но дома можно говорить по-русски.
– Дом – это где? – неожиданно спросила Маша. – Здесь или там, где мы раньше жили?
Вопрос повис в воздухе, как дым от сигареты. Все замолчали.
– Здесь наш дом, – сказал наконец Андрей.
– Тогда почему бабушка каждый день плачет, глядя на фотографии из Москвы? Почему мама говорит, что раньше было лучше? Почему ты сидишь на кухне по ночам и вздыхаешь?
Из уст ребёнка истина звучала особенно жестоко.
– Мы привыкаем, – сказал Андрей. – Нам нужно время.
– А мне не нужно время, – заявила Маша. – Я уже привыкла. Это моя страна. Мои друзья здесь. Мой язык здесь. А ваша страна там, где вас больше нет.
– Маша! – одёрнула её Мириам.
– Что "Маша"? Я говорю правду. Вы всё время жалеете о том, что бросили. А я рада, что мы здесь. Мне здесь хорошо.