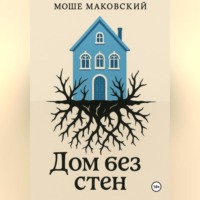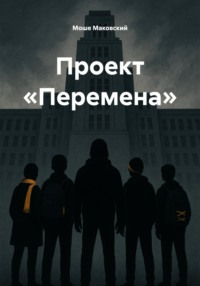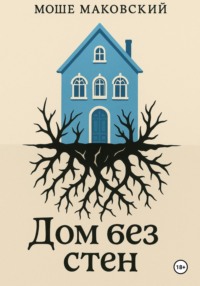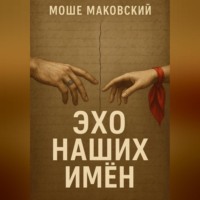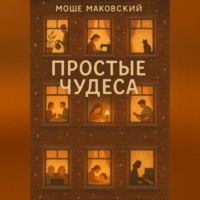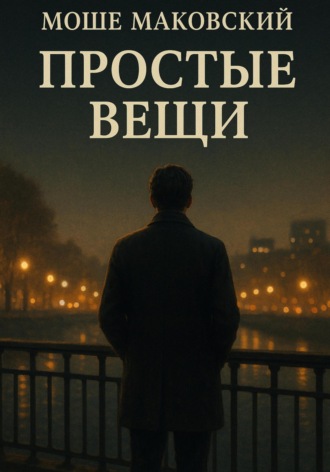
Полная версия
Простые вещи

Моше Маковский
Простые вещи
1. Фотоальбом
Тишина в бабушкиной квартире была густой, почти осязаемой. Она пахла нафталином, сухими травами, которые Лидия Ивановна развешивала по углам, и чем-то еще, неуловимым и горьким – запахом остановившегося времени. Аня, ее единственная внучка, разбирала вещи уже третий день. Третий день она вела безмолвный диалог с человеком, которого больше не было, перебирая аккуратные стопки белья, коробки с пуговицами, аптечку с просроченными лекарствами – весь этот скрупулезный, тщательно организованный мир, в котором больше не было хозяйки.
Бабушка казалась Ане вечной. Тихой, строгой, с тугим пучком седых волос на затылке и взглядом, в котором всегда читалась легкая, непонятная печаль. Она была оплотом, константой. Даже дед, шумный и веселый, ушедший десять лет назад, казался на ее фоне чем-то временным, вспышкой. А бабушка была всегда. И теперь ее не стало.
Разбор вещей был не просто обязанностью, а попыткой оттянуть момент окончательного прощания, когда квартира опустеет, а ключ ляжет на дно Аниной сумки. Шкаф, антресоли, комод… Остался только старый дореволюционный сундук, обитый потемневшей кожей, который служил подставкой для фикуса. Бабушка никогда не разрешала его открывать. «Там старье, Анюта, хлам один», – говорила она, и в ее голосе слышались такие нотки, что спорить не хотелось.
Ключик, маленький и ржавый, нашелся в шкатулке с нитками. Замок поддался не сразу, со скрежетом и стоном, словно нехотя выпуская на волю запертые внутри десятилетия. Внутри лежали пожелтевшие кружевные салфетки, отрез тяжелого бархата и, на самом дне, он – фотоальбом.
Он не был похож на те тонкие альбомы с пластиковыми кармашками, где хранились Анины детские фото. Этот был тяжелым, в бордовой бархатной обложке, истертой на углах до основы. Аня открыла его, ожидая увидеть знакомые лица: прадеды с суровыми усами, молодые дед и бабушка на свадьбе, мама в пионерском галстуке.
На первой странице была она. Бабушка. Но не та Лидия Ивановна, которую знала Аня. На черно-белой карточке смеялась тоненькая девушка лет восемнадцати, с двумя озорными косичками и распахнутыми глазами. Она сидела на скамейке в парке, запрокинув голову, и весь ее облик излучал такое беззаботное счастье, что Аня невольно улыбнулась. Рядом с ней сидел он.
Не дед.
Совершенно незнакомый молодой человек. Высокий, темноволосый, в светлой рубашке с закатанными рукавами. Он не смотрел в объектив. Он смотрел на нее, на юную Лиду, и во взгляде его было столько нежности и восхищения, что у Ани на секунду перехватило дыхание. Под фотографией, выведенное каллиграфическим почерком, стояло: «Парк Горького. Июнь 58-го».
Аня начала лихорадочно перелистывать страницы. Вот они снова, на набережной Невы, на фоне разведенных мостов. Лида в легком платье, ее волосы треплет ветер. Он обнимает ее за плечи, и они оба смеются. «Ленинградские ночи. Июль 59-го». Вот они в аудитории университета, склонились над какой-то книгой. «Саша сдает физику. Я – верю!» – гласила подпись.
Саша. Так вот как его звали.
Страница за страницей, Аня погружалась в чужую, незнакомую жизнь своей бабушки. Жизнь, полную солнца, смеха, путешествий на поезде и студенческих вечеринок. На всех фотографиях они были вместе, и на всех они были ослепительно счастливы. Это была какая-то другая вселенная, не имеющая ничего общего с тихой, размеренной и всегда немного грустной жизнью, которую вела ее бабушка. На этих снимках не было и намека на ту женщину, что пекла пироги по воскресеньям и учила Аню вязать. Здесь была Лида – живая, влюбленная, полная надежд.
Последняя фотография в альбоме была сделана зимой. Саша и Лида стоят у заснеженной елки, он держит ее замерзшие руки в своих больших ладонях. Его лицо серьезно, а она смотрит на него с обожанием. Подпись была другой, сделанной торопливым, сбившимся почерком: «Проводы. Февраль 60-го. Он обещал вернуться».
После этой страницы альбом был пуст. Десятки пустых картонных листов с прорезями для фотографий. Словно пленка оборвалась.
Аня закрыла альбом. В комнате стало еще тише. Кто этот Саша? Куда он уехал? Почему бабушка, сохранившая эту историю с такой бережностью, никогда, ни единым словом о ней не обмолвилась? А дед? Знал ли он? Они поженились в шестьдесят третьем, Аня помнила дату. Что произошло за эти три года?
Вопросы роились в голове, не давая покоя. Это было больше, чем просто любопытство. Это было ощущение, что она всю жизнь знала лишь фасад, официальную версию биографии самого близкого ей человека, а настоящая, полная страстей и боли история была надежно заперта в этом бархатном альбоме.
На следующий день Аня поехала к двоюродной бабушке, Зинаиде, младшей сестре Лидии. Тетя Зина, маленькая и сухонькая, встретила ее с обычной суетливой заботой. Напоив чаем с вареньем, она завела привычный разговор о болячках и ценах на рынке. Аня выждала паузу и, достав из сумки альбом, положила его на стол.
– Тетя Зина, я нашла это у бабушки. Расскажи мне.
Зинаида надела очки, открыла альбом и замерла. Ее морщинистые пальцы осторожно, почти благоговейно, коснулись первой фотографии. Она долго молчала, и Аня видела, как по ее щеке медленно ползет слеза.
– Сашенька… – прошептала она. – Я уж и забыла, каким он был. Красивый. И Лидка наша… светилась вся рядом с ним.
– Кто он? – тихо спросила Аня.
– Первая любовь, – вздохнула Зинаида. – И последняя, если по-честному. Они в университете познакомились. Он на физмате учился, гений, а не парень. Стихи писал, на гитаре играл, спорил со всеми о политике… Слишком умный, слишком смелый для того времени. Они были не разлей вода. Собирались пожениться, как только он диплом получит. Твоя бабушка летала тогда, а не ходила.
– Что с ним случилось? Куда он уехал?
Зинаида сняла очки и посмотрела на Аню долгим, тяжелым взглядом.
– Никуда он не уезжал, Анечка. Его «уехали». В ту зиму, после той самой фотографии. Собрались у них в общежитии ребята, читали какого-то запрещенного поэта, спорили о свободе. Кто-то донес. Ночью пришли и забрали всех. Саше дали десять лет. За антисоветскую агитацию.
Аня похолодела. Десять лет. В шестьдесятом году.
– Бабушка… она ждала его?
– Ждала, – кивнула Зинаида. – Первые два года писала письма. Каждый день. А в ответ – тишина. Ей потом один его друг, которого раньше выпустили, передал, чтобы не ждала. Сказал, что Саша сам просил так сказать. Чтобы жизнь себе не ломала. А еще сказал, что там, в лагере… он заболел. Сильно. И что шансов вернуться у него почти нет.
Зинаида снова замолчала, вытирая глаза уголком платка.
– Лидка тогда будто умерла. Ходила как тень, молчала месяцами. Родители наши испугались, что она руки на себя наложит. А потом появился твой дед, Иван. Он давно за ней ухаживал, еще до Саши. Он был простой, надежный, земной. Он все знал. И он просто был рядом. Ничего не требовал, ничего не спрашивал. Просто приносил ей цветы, читал вслух газеты и говорил, что все будет хорошо. Через год она согласилась выйти за него замуж.
– Но она ведь… она любила деда? – с надеждой спросила Аня.
– Она его уважала. Была ему благодарна. Была верной и хорошей женой. И матерью. Но та девочка, что смеется на этих фотографиях… она умерла в тот день, когда узнала, что Сашу не нужно больше ждать. Твой дед это понимал. И любил ее за двоих. За себя и за того парня, который смотрел на нее так, как никто больше не смотрел.
Аня вернулась в пустую бабушкину квартиру уже поздно вечером. Она снова открыла альбом. Теперь она смотрела на эти счастливые лица другими глазами. Она видела не просто влюбленную пару, а хрупкий, короткий миг счастья, обреченный на гибель. Она поняла, откуда взялась та пожизненная печаль в глазах ее бабушки. Поняла ее строгость и молчаливость – так она защищала свою хрупкую память, свою великую тайну. Она не забыла. Она просто заперла свою боль в старом сундуке, чтобы жить дальше, растить дочь, а потом и внучку.
Аня нашла в альбоме маленький потайной кармашек, который не заметила раньше. Внутри лежал сложенный вчетверо пожелтевший листок. Это было не письмо. Это был засушенный цветок эдельвейса и несколько строк, написанных знакомым каллиграфическим почерком Саши:
«Говорят, это цветок верности и любви, растущий у самых вершин. Достать его трудно, почти невозможно. Как и нашу с тобой любовь. Он твой, Лида. Навсегда».
Слезы капали на старую бумагу. Аня плакала не о той тихой старушке, которую она проводила в последний путь три дня назад. Она плакала о смеющейся восемнадцатилетней девочке Лиде, чья любовь была так безжалостно растоптана. Она плакала о гениальном мальчике Саше, сгинувшем в лагерях. И о своем деде, хорошем и простом человеке, который всю жизнь любил женщину, чье сердце навсегда осталось с другим.
Аня аккуратно вложила листок обратно в тайник и закрыла альбом. Она больше не будет разбирать вещи. Не сегодня. Она села в старое бабушкино кресло, и впервые за три дня тишина в квартире перестала быть гнетущей. Она была наполнена историей, болью и великой любовью. И Аня поняла, что только сейчас, после смерти, она по-настоящему узнала свою бабушку.
2. Молчание отца
Отец для Кирилла всегда был явлением из области геометрии. Прямой, предсказуемый, с четко очерченными гранями. Он существовал в координатной плоскости из двух осей: «должен» и «правильно». Утром – завод, вечером – газета, в субботу – гараж, в воскресенье – дача. Эмоции, если и были, то находились где-то в третьем, невидимом измерении, недоступном для Кирилла.
Николай Петрович не ругал и не хвалил. Он констатировал. «Тройка? Плохо. Надо исправить». «Золотая медаль? Ожидаемо». «Поступил в институт? Хорошо». За всю жизнь Кирилл не мог вспомнить ни одного объятия, ни одного спонтанного слова одобрения. Любовь отца была похожа на качественную, но лишенную всяких изысков вещь: она была надежной, функциональной, но абсолютно холодной на ощупь. Она выражалась в оплаченных репетиторах, купленной к восемнадцатилетию машине и молчаливом присутствии на всех важных событиях, от выпускного до свадьбы. Присутствии, которое ощущалось скорее как инспекция, чем как поддержка.
Мать, мягкая и суетливая, была буфером между этими двумя мирами. «Папа тебя любит, просто он такой человек», – повторяла она как мантру, пытаясь сгладить острые углы его молчания. Кирилл кивал, но не верил. Он давно смирился с мыслью, что его отец – человек-функция, механизм, собранный из долга и ответственности, в котором деталь под названием «нежность» просто не была предусмотрена конструкцией.
Все изменилось в один из тех серых ноябрьских дней, когда родители затеяли перестановку. Старый отцовский письменный стол, массивный, сталинских времен, с зеленым сукном и бесчисленными ящичками, решено было вывезти на дачу.
– Помоги, Кирилл, спина ни к черту, – бросил отец, и Кирилл, как всегда, молча подчинился.
Они вдвоем кряхтя вытащили монструозный стол в коридор. Ящики предварительно вынули, но один, самый нижний, заклинило.
– Сломаем, да и черт с ним, – безразлично сказал Николай Петрович. Но Кирилл, унаследовавший от него упрямство, решил повозиться. Он поддел ящик отверткой, что-то внутри хрустнуло, и он поддался. Ящик был пуст. Почти. На самом дне лежал небольшой плоский сверток, обернутый в пожелтевшую газету «Правда» за 1988 год и перевязанный аптечной резинкой.
– Что там? – спросил отец из комнаты.
– Мусор какой-то, – автоматически ответил Кирилл, а сам, движимый непонятным импульсом, сунул сверток в карман куртки.
Дома, уже поздно вечером, когда жена и дети уснули, он вспомнил о своей находке. Он развернул газету, и на стол легли письма. Несколько десятков писем в тонких почтовых конвертах, исписанных аккуратным, убористым почерком. Почерком отца. Кирилл сразу его узнал – таким же отец подписывал ему школьный дневник.
Первое, что его поразило – адрес. Все письма были отправлены в небольшой городок под Рязанью. Имя получателя было женским: «Анне Георгиевне Тихоновой». Сердце Кирилла неприятно екнуло. Двойная жизнь? Тайный роман, длившийся десятилетиями? Образ отца-кремня начал давать трещину.
Он осторожно вынул из конверта первый попавшийся листок. Дата стояла – май 1992 года.
«Моя дорогая Анечка!
Прости, что задержался с ответом, на заводе был полный завал. Очень рад был узнать, что Мишенька пошел. Не переживай, что он немного косолапит, все дети так начинают. Постарайся купить ему правильные сандалики, с жестким задником. Я выслал немного денег сверх обычного, должно хватить. Ты только не экономь на мальчике. Как он отреагировал на заводную собаку? Смеялся? Представляю его улыбку, и у самого на душе светлее.
Ты спрашиваешь, как мы. Все по-старому. Ира (мать Кирилла) хлопочет по дому, у Кирюши в школе одни пятерки. Он мальчик способный, но какой-то замкнутый. Не могу найти к нему подход. Иногда смотрю на него и думаю: что у него на уме? Он совсем на меня не похож.
Береги себя, Аня. Помни, что вы не одни. Я всегда рядом, пусть и далеко.
Твой Н.»
Кирилл перечитал письмо несколько раз. Он не узнавал этого человека. «Твой Н.»? «На душе светлее»? Этот слог, эта забота о «правильных сандаликах», эта нежность, сквозившая в каждой строчке, – все это было настолько чуждо образу его отца, что казалось абсурдом. А последняя фраза… «Он совсем на меня не похож». Это было сказано с такой горечью, с таким сожалением, которое Кирилл никогда не слышал в живом голосе отца.
Он начал читать другие письма, выхватывая их вразнобой, погружаясь в чужую жизнь, которая на протяжении тридцати лет текла параллельно его собственной.
«…обязательно своди Мишу к морю. Мальчику нужен йод. Деньги – не проблема, не смей отказывать…» (1995)
«…поздравь его с первой пятеркой по математике! Скажи, я им очень горжусь. Вложил в конверт несколько интересных задачек из журнала «Квант», пусть попробует решить…» (1998)
«…понимаю, что переходный возраст – это тяжело. Не дави на него. Попробуй поговорить как с другом. Если он хочет эти дурацкие джинсы, пусть будут джинсы. Главное, чтобы он тебе доверял…» (2003)
«…Аня, я умоляю тебя, не падай духом. Врачи могут ошибаться. Я навел справки, есть в Москве один профессор… Я все организую. Ты только держись. Ты нужна Мише. Ты нужна мне…» (2009)
Кирилл читал, и ледяная стена обиды, которую он выстраивал вокруг себя с самого детства, крошилась, осыпалась пылью. Это не была история пошлой измены. Это была история… любви. Но какой? Заботы, ответственности, нежности – всего того, чего он сам был лишен. Отец гордился успехами чужого мальчика Миши, беспокоился о его здоровье, давал мудрые советы о переходном возрасте. А что помнил Кирилл? Вечное отцовское: «Сам разберешься».
К утру, когда за окном забрезжил серый рассвет, Кирилл дочитал последнее письмо. Он чувствовал себя опустошенным и странно повзрослевшим. Гнев сменился горьким недоумением. Почему? Почему вся теплота, на которую была способна душа этого человека, досталась чужой семье?
В тот же день он поехал к родителям. Отец, как обычно, сидел на кухне с газетой.
– Пап, нам надо поговорить.
Кирилл положил на стол стопку писем. Николай Петрович опустил газету. Он посмотрел на письма, потом на сына. В его глазах не было ни страха, ни удивления. Только бездонная, вселенская усталость.
– Нашел все-таки, – тихо сказал он. – Я думал, сжег их все.
– Кто она? – голос Кирилла дрогнул.
Отец долго молчал, глядя в окно, на голые ветки деревьев.
– Аня – вдова моего лучшего друга, – наконец произнес он глухо. – Мишка – его сын.
Кирилл замер.
– Мы с его отцом, с Гришкой, вместе служили. В Афгане. Там, знаешь ли… там дружба – это не просто слово. Мы были как братья. В восемьдесят седьмом его ранило, тяжело. В госпитале, перед последней операцией, он взял с меня слово. Сказал: «Коля, если со мной что… не бросай моих. Анька одна с пацаном останется, пропадут». Он будто чувствовал. На следующий день его не стало.
Николай Петрович сглотнул. Кирилл впервые в жизни видел, как дрожит его подбородок.
– Вот и все. Я дал слово. Для меня это было… как приказ. Я вернулся, нашел их. Жили они бедно. Я помогал, чем мог. Сначала деньгами, потом… потом Аня начала писать. Обо всем. О Мишке, о болячках, о жизни. А я отвечал. Мне казалось, что так я продолжаю говорить с Гришкой. Рассказываю ему, как растет его сын.
– Но почему… почему ты никогда не говорил? – прошептал Кирилл. – Маме, мне…
Отец впервые посмотрел ему прямо в глаза. И в этом взгляде больше не было холода. Была только боль.
– А что говорить? Хвастаться, что я выполняю долг перед погибшим другом? Это не подвиг, сынок. Это… личное. Это было между мной и Гришкой. А вы… – он замялся, подбирая слова. – Я думал, вы и так знаете, что я вас люблю. Я работал на этом проклятом заводе сорок лет. Построил дом. Выучил тебя. Дал тебе все, что мог. Я просто… не умею говорить об этом. Не научили. Я думал, дела важнее слов.
Он тяжело вздохнул.
– А с ними… с ними было проще на бумаге. Бумага все стерпит. Там я мог быть таким, каким в жизни быть не получалось. Наверное, я всю нежность, что во мне была, туда и вложил. А на вас… не осталось. Прости.
Кирилл смотрел на своего старого, уставшего отца и чувствовал, как из горла уходит комок, душивший его много лет. Он не был холодным. Он не был бесчувственным. Он был человеком, который взвалил на себя неподъемный груз чужого горя и молча нес его тридцать лет, потому что дал слово. И вся его любовь, которую Кирилл так отчаянно искал, была там – в каждом построенном доме, в каждом оплаченном счете, в каждом молчаливом присутствии. Она просто говорила на другом языке.
Он встал, подошел к отцу и впервые в своей сознательной жизни положил руку ему на плечо. Отец вздрогнул, но не отстранился. Они сидели молча, и эта тишина была иной. Она больше не была пустой и холодной. Она была наполнена горьким, запоздалым пониманием. И в этой тишине сын наконец-то услышал своего отца.
3. Наследство
Степана Аркадьевича хоронили в погожий сентябрьский день, из тех, что притворяются летом, но уже пахнут тлением. На кладбище, под обманчиво ласковым солнцем, семья держалась единым, монолитным фронтом скорби. Старший сын, Виктор, московский бизнесмен, стоял с каменным лицом, крепко сжимая локоть своей холеной жены. Младший, Дмитрий, преподаватель музыки из местного ДК, то и дело доставал платок и украдкой вытирал глаза. Между ними, как зажатый нерв, застыла их сестра Ольга, худая, изможденная женщина, на чьи плечи легла вся тяжесть последних отцовских лет.
Для посторонних они были образцовой семьей, объединенной горем. Но под черным крепом траура уже трещали швы старых обид, и каждый брошенный украдкой взгляд был точнее любого диагноза. Они не оплакивали отца – они ждали. Ждали, когда приличия будут соблюдены, и можно будет наконец вскрыть конверт, который определит их будущее.
Степан Аркадьевич, бывший директор крупного завода, человек властный и язвительный, и в жизни не упускал случая столкнуть детей лбами, наслаждаясь их соперничеством. Было бы наивно полагать, что после смерти он изменит своим привычкам.
Через неделю они собрались в его кабинете у нотариуса – пожилого человека в очках, который был другом и доверенным лицом покойного. Воздух был пропитан запахом кожи, дорогого табака и старых книг – запахом отцовской власти.
Нотариус прокашлялся и начал зачитывать последнюю волю. Дача отходила Ольге, «в благодарность за дочерний уход и терпение». Гараж с ветхой «Волгой» – Дмитрию, «в память о наших мужских разговорах». Небольшой денежный вклад – поровну внукам, на учебу. Все затаили дыхание. Главный актив – четырехкомнатная квартира в самом центре города, «сталинка» с высокими потолками и дубовым паркетом – еще не был упомянут.
– Что касается квартиры по адресу улица Ленина, дом семь, – продолжил нотариус, подняв глаза поверх очков, – то ее, а также все находящееся в ней имущество, я завещаю троим моим детям: Виктору, Ольге и Дмитрию. В равных долях.
Виктор едва заметно кивнул, его лицо выражало удовлетворение. Дмитрий облегченно выдохнул. Ольга оставалась напряженной.
– Однако, – нотариус сделал паузу, явно наслаждаясь эффектом, – имеется одно условие. Вступает в силу запрет на любые операции с данной недвижимостью – продажа, обмен, дарение – сроком на один год со дня моей смерти. Любые действия возможны только по истечении этого срока и при единогласном письменном согласии всех трех наследников.
В кабинете повисла тишина, густая, как отцовский сигарный дым. Игра началась. Старый лис и из могилы расставил им ловушку, заперев их в одной клетке и бросив внутрь кусок мяса. Он не оставил им наследство. Он оставил им поле боя.
Первый залп прозвучал тем же вечером, в осиротевшей квартире, куда они съехались якобы для того, чтобы решить, «как быть дальше».
– Все очевидно, – начал Виктор, расхаживая по гостиной с уверенностью нового хозяина. – Через год квартиру нужно продавать. Рынок сейчас на пике. Разделим деньги, и каждый решит свои проблемы. Я готов даже взять на себя оформление, чтобы избавить вас от хлопот.
– Продавать? – Дмитрий вскинул голову. Его лицо, обычно мягкое, стало упрямым. – Ты так просто говоришь… Тут наше детство прошло, каждая трещина в паркете – воспоминание. Отец бы не хотел, чтобы мы все разбазарили.
– Отец хотел, чтобы мы не перегрызлись, как собаки, в чем я лично уже сомневаюсь, – отрезал Виктор. – И перестань прикрываться сантиментами. Тебе просто нужны деньги не меньше, чем мне, только признаться в этом не хватает духа. Твоя музыкальная школа приносит копейки, а у тебя сын-студент.
– А тебе, конечно, не нужны, – язвительно вставила Ольга, до этого молчавшая в углу. – У тебя же свой «бизнес», нефтяная скважина в каждой тумбочке. Только вот машина у тебя в кредите, я знаю. И дача твоя в Подмосковье – тоже. Отец все знал.
Виктор побагровел.
– А ты, я смотрю, хорошо поработала в последние годы! Нашептывала старику в уши, обрабатывала. Думала, он тебе одной все отпишет? Не вышло! Получила свою дачу – вот и радуйся.
Это было то самое слово. Спусковой крючок.
– Дачу? – голос Ольги зазвенел от сдерживаемых годами слез. – Эту развалюху с протекающей крышей? Это плата за пять лет моей жизни? За то, что я меняла ему памперсы, пока вы строили свои карьеры и растили своих детей? За то, что я слушала его старческие придирки и видела, как он угасает, одна? Где вы были? Ты, Витя, звонил раз в месяц, чтобы спросить, не пора ли оформлять опекунство! А ты, Дима, забегал на полчаса, чтобы стрельнуть денег до зарплаты! Я здесь жила, я здесь буду жить! И я ничего продавать не буду. Это моя квартира! Я ее заслужила!
С этого момента хрупкое перемирие рухнуло. Квартира превратилась в осажденную крепость. Ольга, осознав свою власть – без ее подписи братья ничего не могли сделать, – стала в ней полновластной хозяйкой. Она сменила замки. Братья, в свою очередь, начали юридическую войну. Виктор нанял юриста, который искал лазейки в завещании. Дмитрий, прикрываясь заботой о «семейном архиве», пытался вывезти из квартиры антикварную мебель и картины, пока Ольга не выставила его за дверь с криками «Мародер!».
Они перестали быть семьей. Они стали истцами и ответчиками. В телефонных разговорах они больше не спрашивали о здоровье детей – они обменивались угрозами и цитировали статьи Гражданского кодекса.
Однажды, во время очередного «визита» с целью переговоров, который мгновенно перерос в скандал, Дмитрий случайно задел старый отцовский барометр. Тот упал и раскололся. Из разбитого корпуса на пол выпала небольшая металлическая шкатулка, оклеенная изнутри бархатом. В ней лежали не бриллианты и не пачки денег. Там были три тонкие школьные тетради. Дневники Степана Аркадьевича, которые он вел в последний год жизни.
Они умолкли и, столпившись над находкой, начали читать. Рука старика дрожала, буквы прыгали, но смысл был ясен. Он писал не о детях. Он писал о своей покойной жене, их матери.
«12 октября. Снова снилась Маша. Будто мы молодые, и она смеется. Проснулся, а рядом пусто. Оля опять ворчала, что я плохо ел. Она хорошая, но такая несчастная. Вся в обидах, как в коросте».
«5 ноября. Звонил Витька. Говорил про какие-то акции. Я ничего не понял. Голос у него чужой, металлический. Как будто не сын, а деловой партнер. Маша, ты бы расстроилась. Ты всегда хотела, чтобы он был врачом».
«18 декабря. Приходил Димка. Играл на пианино. Фальшивил, как всегда. Но я слушал и вспоминал, как ты радовалась его первым концертам. Он хороший парень, но слабый. Всю жизнь ищет, на кого опереться. А опереться больше не на кого».
Последняя запись была сделана за неделю до смерти.
«Они думают, я не понимаю, чего они ждут. Ждут, когда я сдохну и освобожу им жилплощадь. Никто из них не спросил, о чем я думаю. Никто не принес мне мой любимый кефир, который ты, Машенька, всегда мне покупала. Они поделят все. Деньги, стены, стулья. А потом поймут, что делить больше нечего. Что они остались одни. Может, тогда вспомнят, что они – братья и сестра. Хотя вряд ли. Я их такими воспитал. Сильными. Одинокими. Прости меня, Маша».