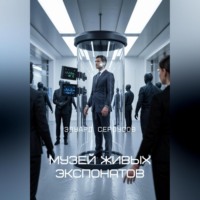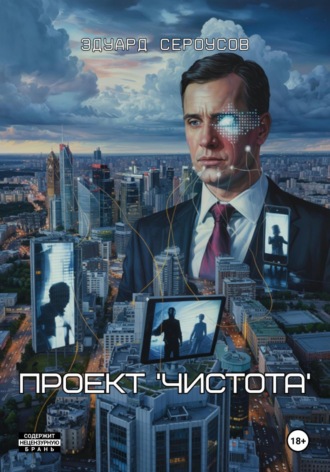
Полная версия
Проект 'Чистота'
– Технически это выполнимо, – сказал Денис, просмотрев спецификацию. – Но потребуется доступ к огромному количеству персональных данных. И вычислительные мощности на порядок выше, чем для «Чистоты».
– Это проблема? – спросил я.
– Нет, если бюджет соответствующий, – он пожал плечами. – Но есть этический аспект. Мы фактически создаем систему, которая будет решать, кто имеет право голоса, а кто нет.
Все посмотрели на меня, ожидая реакции. Я чувствовал их взгляды – вопросительные, обеспокоенные, может быть, даже осуждающие.
– Я понимаю ваши опасения, – сказал я наконец. – Но решение принято на самом высоком уровне. Наша задача – реализовать проект с максимальной эффективностью и… минимальными побочными эффектами.
– Какие могут быть «побочные эффекты» у системы, созданной для превентивного подавления свободы слова? – тихо спросила Марина.
Я не ответил. Что я мог сказать? Что сам испытываю все больше сомнений? Что начинаю понимать, что мы создаем чудовище?
– Давайте сосредоточимся на технических аспектах, – сказал я вместо этого. – Денис, подготовьте детальный план работ. Марина, вам нужно разработать критерии оценки потенциальной «деструктивности» пользователей. Остальные – изучите спецификацию и представьте свои предложения по реализации.
Команда разошлась, и я остался один в конференц-зале. Включил большой экран на стене и вывел на него текущую статистику работы «Чистоты». Цифры были впечатляющими: за последний месяц система заблокировала более миллиона единиц «деструктивного» контента.
Но что на самом деле скрывалось за этими цифрами? Сколько среди этого миллиона было действительно опасных материалов, а сколько – просто неудобных для власти мнений? Критических статей? Научных работ, не вписывающихся в официальную идеологию?
Я начал просматривать примеры заблокированного контента. Система хранила все в архиве, классифицируя по уровню «опасности».
Вот статья о коррупции в оборонной промышленности – блокировка по критерию «подрыв доверия к стратегическим отраслям».
Вот научная работа о демографическом кризисе – блокировка по критерию «распространение панических настроений».
Вот литературное произведение с антиутопическим сюжетом – блокировка по критерию «аллюзии на действующую власть».
И так далее, страница за страницей. Большинство материалов не содержали ничего противозаконного – только неудобные факты, критические мнения, альтернативные точки зрения.
И теперь мы собирались пойти дальше – создать систему, которая будет определять, кому вообще позволено высказываться публично.
Вечером ко мне в кабинет зашла Марина. Она выглядела встревоженной.
– Вадим, мы должны поговорить.
Я жестом пригласил ее сесть.
– Я просматривала спецификацию «Призмы», – начала она. – Там есть раздел о «превентивных мерах» против потенциальных создателей деструктивного контента. Вы читали его внимательно?
– Еще нет. А что там?
– Система будет не только выявлять таких людей, но и рекомендовать в отношении них «административные меры». От блокировки аккаунтов до… – она запнулась, – …инициирования проверок правоохранительными органами.
Я почувствовал, как внутри все холодеет.
– Вы уверены?
– Это прямо написано в документации. Страница 47, раздел «Механизмы реагирования».
Я открыл папку и нашел указанный раздел. Действительно, там черным по белому описывались меры против лиц, которых система определит как «потенциально опасных». От мягких, вроде «корректирующей беседы» и «предупреждения», до жестких – «административное преследование», «уголовное расследование», «принудительное лечение» (для случаев «информационно-психологической девиации»).
– Мы создаем не просто систему фильтрации, – тихо сказала Марина. – Мы создаем систему репрессий.
Я молчал. Что я мог возразить? Она была права.
– Вадим, я не могу участвовать в этом, – продолжила она. – Это… это неправильно. Это противоречит всему, во что я верю.
– Вы хотите уйти из проекта? – спросил я.
– Я не знаю, – она выглядела потерянной. – Уйду я или нет, «Призму» все равно создадут. Может быть, лучше остаться и попытаться… смягчить ее? Сделать менее радикальной?
Я понимал ее дилемму. Сам мучился тем же вопросом: что правильнее – уйти, умыв руки, или остаться и пытаться влиять на процесс изнутри?
– Я не могу решать за вас, Марина. Но я был бы рад, если бы вы остались. Мне нужны люди, которые понимают, что на кону.
Она долго смотрела на меня, словно пытаясь понять, что я на самом деле думаю.
– Хорошо, – сказала она наконец. – Я останусь. Пока.
После ее ухода я долго сидел, глядя в окно на ночную Москву. Решение, которое я принял утром – играть роль лояльного исполнителя, одновременно саботируя проект изнутри – казалось все менее реалистичным. Степнов не дурак. Он заметит любые попытки замедлить или исказить разработку.
А если он заметит, последствия будут серьезными. Не только для меня, но и для всех, кто мне дорог. Включая Антона, которого до сих пор разыскивали.
Я достал телефон и написал брату в зашифрованном мессенджере: «Они готовят новую систему. Превентивное выявление „потенциально опасных" авторов. Будь предельно осторожен».
Ответ пришел через несколько минут: «Понял. Мы почти закончили новый материал. Он взорвет всю вашу конструкцию».
Я почувствовал одновременно гордость за брата и страх за него. Что он раскопал на этот раз? И как далеко власти готовы зайти, чтобы его остановить?
Домой я вернулся за полночь. Налил себе виски, выключил свет и сел у окна, глядя на город. Где-то там, среди миллионов огней, скрывался мой брат, готовящий новое разоблачение. Где-то там были тысячи людей, которые могли стать целями «Призмы» – системы, которую я помогал создавать.
Тяжесть этой мысли была невыносимой.
Я заснул в кресле у окна и снова увидел сон об отце. На этот раз он стоял на кухне нашей старой квартиры и смотрел на меня с грустью.
– История повторяется, Вадим, – сказал он. – Только теперь ты с другой стороны.
Я проснулся в холодном поту. Часы показывали 5:30 утра. Сон как рукой сняло.
Я принял душ, оделся и поехал в офис. Нужно было подготовиться к презентации проекта «Призма» перед расширенной командой. Сыграть роль уверенного руководителя, не выдав своих сомнений и страхов.
В офисе было пусто – слишком рано даже для самых рьяных трудоголиков. Я сел за компьютер и начал готовить презентацию. Слайды появлялись один за другим: цели проекта, технические требования, этапы реализации. Все выглядело профессионально, впечатляюще.
И совершенно чудовищно по своей сути.
Через час начали появляться первые сотрудники. Денис, как всегда, раньше других – он, кажется, вообще редко покидал офис.
– Доброе утро, – кивнул он мне. – Не ожидал вас увидеть так рано.
– Готовлюсь к презентации, – ответил я. – Как ваши успехи с архитектурой «Призмы»?
– Продвигаются, – он пожал плечами. – Технически это интересная задача. Этически… – он замолчал.
– Я знаю, – кивнул я. – Поверьте, я понимаю ваши сомнения.
Он внимательно посмотрел на меня.
– Правда? Мне казалось, вы полностью поддерживаете проект.
– Вещи не всегда такие, какими кажутся, Денис.
Он помолчал, словно обдумывая мои слова.
– Вы знаете, что я раньше был хакером? – спросил он неожиданно. – До того, как начал работать «на светлой стороне»?
– Слышал что-то такое.
– Я взломал базу данных ФСБ, – сказал он тихо. – Они поймали меня и предложили выбор: тюрьма или работа на них. Я выбрал второе.
– Понимаю.
– Но я никогда не переставал быть хакером в душе, – продолжил он. – И знаете, в чем главный принцип хакерской этики? Информация должна быть свободной. А системы вроде «Призмы»… они противоречат этому принципу.
Я внимательно посмотрел на него. Денис никогда не казался мне идеалистом. Скорее техническим гением, которого интересуют только сложные задачи, а не их этические последствия.
– К чему вы клоните, Денис?
– Просто хочу, чтобы вы знали: если вам когда-нибудь понадобится… техническая помощь особого рода, вы можете на меня рассчитывать.
С этими словами он развернулся и ушел к своему рабочему месту, оставив меня в легком шоке от этого разговора.
Что он имел в виду? Предлагал помощь в саботаже проекта? Или это была проверка моей лояльности?
У меня не было времени разгадывать эту загадку. В десять утра началось совещание по «Призме». Я представил проект расширенной команде, объяснил новые требования и цели. Говорил уверенно, четко, словно полностью поддерживал эту идею.
После презентации посыпались вопросы. Большинство были техническими: о доступе к данным, о вычислительных мощностях, о методах анализа. Но некоторые затрагивали этическую сторону.
– Как система будет отличать критическое мышление от «деструктивных намерений»? – спросил один из аналитиков.
– На основе комплексного анализа активности пользователя, – ответил я заготовленной фразой. – Система учитывает контекст, тональность, исторические паттерны поведения.
– А если система ошибется? – продолжил он. – Если пометит обычного человека как «потенциально опасного»?
– Все решения системы будут проверяться операторами, – солгал я, зная, что при планируемых масштабах это невозможно. – Человеческий фактор остается ключевым.
Еще несколько вопросов, еще несколько уклончивых ответов. Я видел скептицизм в глазах некоторых членов команды, но большинство приняло проект как данность. Просто еще одна техническая задача, которую нужно решить.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.