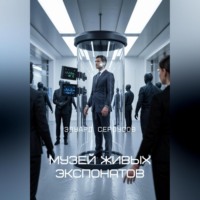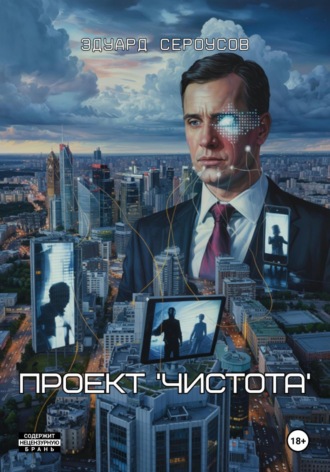
Полная версия
Проект 'Чистота'

Эдуард Сероусов
Проект 'Чистота'
ЧАСТЬ I: ФИЛЬТР
Глава 1: Презентация
Знаете, что самое забавное в утренних презентациях для высшего руководства? Это торжественное молчание перед началом. Когда все эти важные люди в дорогих костюмах сидят с деловыми минами, притворяясь, что уже не решили всё накануне за бокалом односолодового в одном из тех ресторанов, куда не пускают без членской карты.
Я поправил галстук Tom Ford (пятнадцать тысяч, спасибо ежеквартальной премии) и бросил последний взгляд на свои часы. 9:27. Идеальное время, чтобы начать, создав впечатление пунктуальности, но при этом не выглядя суетливым.
– Игорь Валентинович, Михаил Аркадьевич, уважаемые коллеги, – мой голос звучал с точно выверенной комбинацией уверенности и уважения. – Благодарю за возможность представить концепцию проекта «Чистота».
Конференц-зал №3 министерства цифрового развития – этакий стерильный аквариум с претензией на современность: минималистичный дизайн, кожаные кресла, стеклянные стены и огромная цифровая панель на полстены. Интерьер как будто говорил: «Мы за инновации, но в рамках традиционной вертикали власти».
Игорь Валентинович Степнов сидел во главе стола. Заместитель министра, бывший фсбшник с безупречно прямой спиной и взглядом, которым можно замораживать Волгу в июле. Он всегда предпочитал костюмы консервативного кроя, которые на нём выглядели как униформа, даже без погон. Сейчас он слегка кивнул мне, разрешая продолжать, будто давал команду подчинённому.
Министр Громов, напротив, развалился в кресле с видом человека, которого оторвали от чего-то действительно важного. В отличие от своего зама, он носил модные очки с цветной оправой и галстук на полтона ярче, чем позволял официальный дресс-код. Маленькие попытки показать, что он не просто чиновник, а современный, прогрессивный управленец, идущий в ногу со временем.
Я кликнул на пульте, и первый слайд презентации вспыхнул на экране: "ПРОЕКТ «ЧИСТОТА»: НОВАЯ ЭРА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
– Интернет был создан как пространство свободы, – начал я отрепетированную речь. – Но сегодня эта свобода всё чаще оборачивается хаосом и опасностью. Мы столкнулись с беспрецедентным вызовом: как защитить граждан от деструктивного влияния, сохраняя при этом информационное пространство открытым и динамичным?
Следующий слайд: графики роста "деструктивного контента" за последние пять лет. Красные столбцы диаграммы росли от года к году как показатели эпидемии.
– За последние пять лет количество фейков, экстремистских материалов, призывов к противоправным действиям и психологически вредоносного контента выросло на 347%. Традиционные методы фильтрации и блокировки уже не справляются. Нам нужен принципиально новый подход.
Сидящий у окна начальник юридического отдела что-то прошептал своей соседке. Я улыбнулся. Всегда забавно наблюдать за юристами, когда они понимают, что их привычная инструкция «так делать нельзя» сейчас разобьётся о фразу «это вопрос национальной безопасности».
– Проект «Чистота» – это не просто система блокировки, – продолжил я, переключая слайды. – Это интеллектуальная экосистема, способная предотвращать распространение вредоносной информации ещё до того, как она достигнет массовой аудитории.
Я перешёл к технической части, осознанно упрощая детали. Эти люди не хотели знать, как именно работает алгоритм. Им нужны были результаты и уверенность, что кто-то компетентный позаботится о деталях. Этим «кем-то» был я, Вадим Белов, вчерашний журналист, сегодняшний архитектор цифровой цензуры. Забавно, как жизнь складывается.
– Наша система использует продвинутые алгоритмы машинного обучения для выявления потенциально вредоносного контента. В отличие от существующих решений, она анализирует не только сам текст или изображение, но и контекст, тональность, потенциальную аудиторию и исторические паттерны распространения подобных материалов.
Я заметил, как Степнов слегка подался вперёд. Это был хороший знак. В отличие от большинства чиновников его уровня, он действительно вникал в детали проектов.
– Приведу конкретный пример, – я переключил слайд на скриншот статьи. – Вот материал, опубликованный в одном популярном издании две недели назад. На первый взгляд, обычная критическая статья о проблемах в системе образования. Но наш алгоритм выявил…
Я прокручивал статью, подсвечивая фрагменты, которые в сочетании создавали деструктивный нарратив. В зале установилась тишина. Это была действительно мастерски написанная статья: автор умело балансировал на грани, не произнося ничего откровенно запрещённого, но создавая общее впечатление тотальной деградации государственного управления.
Я даже ощутил укол профессиональной зависти – текст был хорош. Интересно, что сказал бы мой преподаватель журналистики, узнав, что я теперь использую свои знания редактора, чтобы выявлять и блокировать талантливых авторов? Впрочем, ему уже всё равно – старик умер три года назад, так и не приняв мой карьерный выбор.
– Это же просто критика, – подал голос один из присутствующих, судя по запонкам и несколько брезгливому выражению лица – представитель пресс-службы. – Разве у нас запрещена критика?
Я снисходительно улыбнулся. Такие возражения – идеальная подача для демонстрации глубины нашего подхода.
– Конечно нет, и именно поэтому нам нужна «Чистота». Традиционная система просто не заметила бы ничего предосудительного. Но наш алгоритм распознал связь автора с ранее выявленными источниками дезинформации, выявил скрытые манипулятивные техники и оценил потенциальный кумулятивный эффект при массовом распространении. Это не просто критика – это элемент спланированной информационной кампании.
Я не стал уточнять, что доказательств связи автора с какими-то «источниками дезинформации» у нас нет. Зато есть технология, позволяющая навешивать такие ярлыки на кого угодно, создавая видимость объективной процедуры.
– И что же система предлагает делать с такими материалами? – спросил Громов, постукивая пальцами по столу.
Хороший вопрос. Переходим к самой деликатной части.
– Система предлагает четыре уровня реагирования, в зависимости от оценки потенциального вреда, – я переключил слайд с четырьмя цветовыми зонами. – Зелёный уровень: материал безопасен, никаких действий не требуется. Жёлтый: материал требует мониторинга и потенциального снижения видимости в поисковых системах и рекомендательных алгоритмах. Оранжевый: материал вредоносен, рекомендуется ограничение распространения с уведомлением площадки. И наконец, красный уровень: материал критически опасен, требуется немедленное блокирование с возможным административным или уголовным преследованием авторов и распространителей.
Я сделал паузу, давая информации осесть.
– В случае с приведённым примером система присвоила оранжевый уровень опасности. Не критично, но требует активных мер по ограничению распространения.
– А кто принимает окончательное решение? – спросил Степнов, буравя меня взглядом.
– На начальном этапе мы предлагаем комбинированный подход, – ответил я. – Система даёт оценку и рекомендацию, но финальное решение принимает оператор-эксперт. По мере обучения алгоритма и накопления опыта мы сможем постепенно автоматизировать процесс для зелёной и жёлтой зон, оставив человеческий контроль только для оранжевых и красных случаев.
Это была ложь, и Степнов это знал. Мы оба понимали, что объём контента сделает человеческую модерацию невозможной, и очень скоро система будет принимать решения автоматически для всех уровней. Но нам нужна была эта фикция, чтобы успокоить юристов и пиарщиков.
– Теперь о ресурсах, – я перешёл к финансовому разделу. – Для полноценной реализации проекта нам потребуется…
Я озвучил цифру, которая заставила присутствующих заметно напрячься. Да, сумма была внушительной. Но я знал, что деньги найдутся. В нынешней России на безопасность денег не жалели.
– Это… весьма амбициозная заявка, – осторожно заметил Громов.
– Михаил Аркадьевич, – вмешался Степнов, впервые за встречу. – Если проект «Чистота» оправдает хотя бы половину ожиданий, это будет самая выгодная инвестиция в информационную безопасность за последнее десятилетие. Вы видели последние рекомендации Совбеза по информационным угрозам? – он многозначительно посмотрел на министра.
Громов поджал губы и кивнул. Все в комнате понимали, что отсылка к Совбезу – это фактически завуалированная отсылка к самому верху. Игра была сделана.
– Что ж, Вадим Александрович, – произнёс министр, бросая быстрый взгляд на часы. – Презентация впечатляющая. Подготовьте детальный план с графиком работ и конкретными KPI. И график освоения средств, разумеется, – он позволил себе лёгкую улыбку.
– Конечно, Михаил Аркадьевич, – я позволил себе улыбнуться в ответ. – Документы будут у вас на столе завтра к обеду.
– Отлично. Значит, решено, – Громов встал, давая понять, что встреча окончена. – Проект «Чистота» получает зелёный свет.
Чиновники начали собираться, обмениваясь короткими репликами. Я сохранил невозмутимое выражение лица, но внутри ощущал прилив адреналина. Это была победа. Моя победа. Моя система, мой проект, мой билет в высшую лигу российской политики.
Степнов задержался, когда все остальные уже вышли из зала.
– Хорошая работа, Вадим, – сказал он, и это прозвучало почти искренне. – Ты оправдываешь мои ожидания.
– Благодарю, Игорь Валентинович. Я ценю ваше доверие.
– Знаешь, почему я выбрал тебя для этого проекта? – неожиданно спросил он.
Я мог бы сказать что-то о профессионализме или опыте, но с такими людьми как Степнов это не работало. Они ценили честность, пусть и циничную.
– Потому что я понимаю обе стороны, – ответил я. – Я был там, – я кивнул в сторону окна, за которым виднелась Москва, – и знаю, как они думают.
Степнов усмехнулся.
– Умный мальчик. Именно поэтому. Ты – наша последняя надежда на порядок в этом цифровом бардаке, – он похлопал меня по плечу жестом, который должен был выглядеть отеческим, но отчего-то напоминал клеймение скота. – Не подведи.
– Не подведу, Игорь Валентинович.
Когда он ушёл, я остался один в пустом конференц-зале. На мгновение я поймал своё отражение в стеклянной стене – безупречный костюм, модные очки, уверенная осанка. Успешный человек в самом расцвете карьеры.
Интересно, узнал бы меня сейчас Вадик Белов, студент журфака, мечтавший стать новым Политковским или Доренко? Тот наивный идеалист, который приходил на каждую демонстрацию и верил, что правда – это что-то большее, чем просто удобная формулировка для текущей конъюнктуры?
Наверное, нет. И это к лучшему.
Я достал телефон и увидел пропущенный звонок от Антона. Уже третий за неделю. Братишка явно что-то хотел, но у меня не было ни времени, ни желания выслушивать очередную порцию морализаторства о «продажности» и «работе на режим». Перезвоню как-нибудь потом. Может быть.
Сейчас мне нужно было встретиться с технарями, чтобы начать проработку деталей. «Чистота» обретала плоть, и я чувствовал себя демиургом нового мира. Мира, где информация будет течь по строго определённым руслам, не размывая фундамент государственности.
Красивая метафора, надо запомнить для следующей презентации.
Восемь лет назад я бы в лицо рассмеялся тому, кто сказал бы, что я буду заниматься государственной цензурой. Я был восходящей звездой «свободной прессы» – спецкор «Ведомостей», с хорошими связями, амбициями и принципами. О, эти священные принципы третьекурсника журфака! Свобода слова, прозрачность, общественный интерес…
Я помню ту ночь, которая изменила всё. Мы с коллегами освещали очередной митинг, что-то там про фальсификации на выборах или новый виток закручивания гаек. Честно говоря, сейчас уже и не вспомню конкретный повод – они все сливаются в одно размытое пятно благородного негодования.
Мы стояли в центре Москвы с планшетами и микрофонами, делая прямое включение, когда началось. ОМОН появился внезапно, хотя всё это время стоял в двух шагах. Толпа колыхнулась, кто-то закричал, кто-то побежал. Я продолжал работать, комментируя в камеру: «Мы видим явно непропорциональное применение силы против мирных демонстрантов…»
Удар дубинкой пришёлся мне по спине. Не самый сильный, скорее предупреждающий. Но этого хватило, чтобы я развернулся и увидел его – крепкого парня в защитной форме с непроницаемым забралом. Мы смотрели друг на друга секунду или две, и я вдруг понял, что он примерно моего возраста. Может быть, мы даже слушали одну и ту же музыку или болели за одну команду.
– Мы просто делаем свою работу, – сказал я, поднимая удостоверение прессы. – Я журналист, у меня есть право находиться здесь.
Я не услышал ответа, но прочитал его по глазам за забралом: «Я тоже просто делаю свою работу».
В тот момент что-то щёлкнуло во мне. Не страх, не гнев – скорее понимание какой-то фундаментальной истины о том, как устроен этот мир. Мы все просто делаем свою работу. Кто-то избивает демонстрантов, кто-то снимает это на камеру, кто-то потом смотрит это за ужином, кто-то пишет возмущённые посты, кто-то блокирует эти посты… И все это – просто работа.
Через два месяца после того митинга «Ведомости» сменили владельца, а вместе с ним и редакционную политику. Половина редакции ушла, гордо хлопнув дверью, и основала новое «независимое» издание, которое закрылось через год из-за отсутствия финансирования. Я не ушёл.
– Ты продался, – сказал мне тогда Антон, мой младший брат, тоже журналист, только с гораздо более твёрдыми принципами. – Как ты можешь работать на этих мудаков?
– Я работаю на читателей, – ответил я. – И на себя. Кому-то нужно доносить правду даже в изменившихся условиях.
Он покачал головой:
– Это будет уже не правда, Вадим. Это будет тщательно отфильтрованная полуправда. С каждым днём фильтр будет становиться всё плотнее, пока от правды вообще ничего не останется.
Антон всегда был идеалистом. В детстве он мечтал стать палеонтологом, потом космонавтом, потом экологом. В итоге пошёл на журфак вслед за мной, и с тех пор считал своим долгом «разоблачать» и «докапываться». В каком-то смысле я им гордился. В каком-то – жалел.
Когда и «новые Ведомости» стали для меня слишком тесны, я неожиданно получил предложение от пресс-службы Минцифры. Это был неожиданный поворот, но весьма логичный: кто лучше бывшего журналиста знает, как работать с прессой? Зарплата оказалась вдвое выше, социальный пакет – несравнимо лучше, а главное – появилась стабильность.
Антон, конечно, снова был в ярости.
– Теперь ты даже не фильтруешь правду, а создаёшь ложь с нуля! – кричал он. – Ты же сам прекрасно знаешь, что половина того, что ты пишешь в этих пресс-релизах – полная чушь!
– Знаю, – согласился я тогда. – Но знаешь что? Миру нужна стабильность больше, чем абсолютная правда. Ты думаешь, люди хотят знать, как на самом деле принимаются решения? Или сколько денег на самом деле пилится на каждом проекте? Они не хотят этого знать, Антон. Они хотят верить, что всё под контролем.
– Это самооправдание труса, – отрезал он.
Возможно, он был прав. Но с того дня наши пути разошлись окончательно. Он продолжал свои журналистские расследования, переходя из одного независимого издания в другое по мере их закрытия. Я же двигался вверх по карьерной лестнице, из пресс-службы в аналитический отдел, оттуда в управление стратегических коммуникаций. А теперь вот – руководитель проекта национального масштаба.
Кто из нас сделал правильный выбор? Вопрос философский. Я живу в трёшке в «Москва-Сити», езжу на новом BMW и не беспокоюсь о завтрашнем дне. Антон снимает квартиру в Марьино, передвигается на метро и постоянно ищет источники финансирования для своих расследований.
Но иногда, когда я просыпаюсь посреди ночи от смутного беспокойства, я думаю: а может, он всё-таки прав? Может, есть вещи важнее комфорта и карьеры?
Впрочем, такие мысли обычно рассеиваются с первыми лучами солнца, отражающимися от стеклянных башен Сити. Я сделал свой выбор, и это был выбор победителя. Теперь, с проектом «Чистота», я собирался подняться ещё выше.
«Архитектор цифрового суверенитета», – так назвал меня Степнов в неформальной беседе. Звучит неплохо. Почти как «инженер человеческих душ», только для цифровой эпохи.
После презентации я отправился в ресторан «Белуга» на деловой ужин с потенциальными подрядчиками. Разработка алгоритмов фильтрации требовала привлечения серьёзных специалистов по машинному обучению, а их на рынке было не так много. Точнее, хороших специалистов, готовых работать на государство, было катастрофически мало.
– Вы понимаете, Вадим Александрович, – говорил представитель крупной IT-компании, разделывая тартар из оленины, – многие наши сотрудники имеют, скажем так, либеральные взгляды. Не всем понравится участие в проекте, который напрямую связан с ограничением информации.
Я отпил Шато Марго 2015 года и улыбнулся:
– Александр, давайте начистоту. Ваши сотрудники с «либеральными взглядами» с радостью работают на Facebook и Google, которые фильтруют и цензурируют контент не хуже любого авторитарного режима. Только там это называется «борьба с дезинформацией» и «соблюдение стандартов сообщества». Так в чём проблема?
– Разница в бренде, – улыбнулся он в ответ. – Google звучит лучше, чем Роскомнадзор.
– Тогда давайте сделаем так, – я наклонился ближе. – Создайте дочернюю компанию с каким-нибудь нейтральным названием. «Цифровые Решения» или «АлгоТех». Контракт будет с ней. Официально вы разрабатываете «систему семантического анализа для государственных информационных систем». Никакой цензуры, только технологии.
Он задумчиво покачал головой:
– Может сработать. Но цена вопроса будет существенной.
– Бюджет позволяет, – я пожал плечами. – Оформим как R&D с повышенным коэффициентом сложности.
На этом мы и сошлись. Ещё час светской беседы, ещё бутылка вина, и черновой договор был согласован. Я вызвал такси и направился домой, чувствуя приятную усталость успешного дня.
Когда машина проезжала мимо Кремля, я снова увидел пропущенный звонок от Антона. И ещё СМС: «Серьёзно, нам нужно поговорить. Дело касается и тебя тоже».
Что ему могло от меня понадобиться? Мы не общались уже несколько месяцев, с тех пор как я отказался дать ему комментарий для его статьи о новом законе о суверенном интернете. Может, опять нужны деньги на очередное «сенсационное расследование»? Или решил поделиться свежей порцией разочарования в моей моральной деградации?
Я отложил телефон, решив перезвонить завтра. Или послезавтра. Сейчас я слишком устал для братских нравоучений.
Такси подъехало к моей башне. Я кивнул консьержу и поднялся на свой этаж. Квартира встретила меня стерильной тишиной и идеальным порядком – домработница приходила три раза в неделю. В холодильнике ждали безупречно нарезанные овощи и стейк от доставки здоровой еды. В баре – несколько бутылок хорошего виски.
Я налил себе двойной Macallan, включил фоном CNN (привычка ещё с журналистских времён) и открыл ноутбук, чтобы проверить почту перед сном. Среди десятка рабочих писем было одно личное – от бывшей однокурсницы Нины, которая сейчас работала в «Новой Газете».
«Привет, Вадик! Давно не виделись. Говорят, ты теперь большая шишка в Минцифры? Может, пересечёмся на нейтральной территории? Я как раз работаю над материалом про цифровую трансформацию, было бы интересно услышать инсайдерский взгляд. Обещаю – не для публикации, просто для понимания общей картины».
Я усмехнулся. Наивная Нина. Или не такая уж наивная? Решила использовать старые связи для получения инсайдов? Или Антон подговорил её, зная, что к нему у меня уже иммунитет?
Я закрыл письмо без ответа и залпом допил виски. По CNN показывали очередные протесты где-то в Европе. Люди с плакатами, скандирующие что-то про свободу и демократию. Усталые полицейские в защитном снаряжении. Всё как всегда.
Я выключил телевизор и подошёл к панорамному окну. Москва расстилалась подо мной – яркая, динамичная, вечно бодрствующая. Город возможностей для тех, кто понимает правила игры. Город разбитых иллюзий для тех, кто всё ещё верит в идеалы.
Мой город. Мои правила.
Я подумал о проекте «Чистота» и о том, что он будет значить для России. Его преподнесут как защиту от вредоносного влияния, как обеспечение информационного суверенитета, как заботу о психологическом благополучии граждан. И всё это будет отчасти правдой.
Но только отчасти.
Настоящая правда была в том, что «Чистота» создавалась как идеальный инструмент контроля. Система, способная не просто блокировать нежелательный контент, но предугадывать появление инакомыслия и пресекать его в зародыше. Цифровой паноптикум, наблюдающий за каждым байтом информации.
И архитектором этого паноптикума был я – бывший журналист, когда-то клявшийся служить правде.
Забавно, как жизнь складывается, правда?
Телефон снова завибрировал. Антон не сдавался.
Я выключил звук и пошёл в душ. Завтра предстоял важный день – нужно было сформировать команду для проекта, составить детальный план работ и бюджет. «Чистота» не могла ждать.
Братские проблемы подождут.

Глава 2: Команда
Существует любопытный момент в истории любого серьёзного проекта. Момент, когда вы понимаете: идея перестала быть абстракцией и начала обретать плоть. Для меня этот момент наступил, когда я впервые вошёл в отведенное для «Чистоты» помещение в комплексе «Цифра».
Технологический комплекс «Цифра» – это не просто здание. Это манифест нового государственного подхода к IT, выраженный в стекле, бетоне и километрах оптоволокна. Расположенный в деловом квартале Москвы, рядом с Москва-Сити, комплекс включал в себя три 30-этажные башни, соединенные подземными переходами. Официально здесь располагались подразделения Минцифры, Роскомнадзора и нескольких государственных IT-компаний. Неофициально – большая часть башен была заполнена загадочными отделами с обтекаемыми названиями, сотрудники которых предпочитали не распространяться о своей работе.
Подземная парковка комплекса напоминала выставку немецкого и японского автопрома. Я аккуратно припарковал свой BMW рядом с почти идентичной моделью и бросил взгляд на часы. 8:15. Идеальное время, чтобы появиться в офисе – достаточно рано, чтобы продемонстрировать свое рвение, но не настолько, чтобы выглядеть странно.
На входе меня встретила система безопасности, больше похожая на аэропортовую. Металлодетекторы, сканеры, биометрическая идентификация. Двое охранников с военной выправкой и нарочито пустыми глазами наблюдали за процессом.
– Вадим Александрович Белов, – представился я, протягивая временный пропуск.
– Добро пожаловать, Вадим Александрович, – ответил старший из охранников, после проверки по базе. – Вас ожидают на 17 этаже, блок C.
Я кивнул и направился к лифтам. Общедоступная легенда гласила, что в блоке C располагалась команда, работающая над «улучшением государственных онлайн-сервисов». Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Очищенный от «деструктивного контента» интернет действительно можно считать улучшенной версией сервиса. Для определенного типа пользователей.
Лифт плавно поднял меня на 17 этаж. Широкий коридор с матовыми стеклянными дверями по обеим сторонам. В конце коридора – двойные двери с кодовым замком. Рядом – маленькая табличка: «Отдел перспективных цифровых технологий».
Мило. Даже мой пропуск не давал права входа без дополнительной авторизации. Я приложил палец к сканеру, и двери бесшумно открылись.
За ними меня ждало именно то, на что я рассчитывал. Просторное открытое пространство с десятком рабочих станций, пока еще пустых. Одна стена полностью стеклянная, с видом на Москву. Другая – экран во всю стену для презентаций и визуализации данных. Несколько переговорных комнат по периметру, серверная за звуконепроницаемой дверью. И отдельный кабинет в углу – мой.
– Нравится? – раздался голос за спиной.
Я обернулся. Степнов стоял, опираясь на дверной косяк, с видом хозяина, показывающего гостю свои владения.
– Впечатляет, – ответил я искренне. – Когда можно начинать заселение?
– Хоть сегодня, – Степнов подошел ближе. – Оборудование уже заказано, поставка в течение недели. Твоя первоочередная задача – сформировать команду. Бюджет согласован, ставки… конкурентные, – он позволил себе легкую улыбку.
– Сколько людей?
– На первом этапе – до пятнадцати человек. Программисты, аналитики, лингвисты. Профиль ты знаешь лучше меня. Главное – надежность.
– А с допусками?
– Все будет, – он отмахнулся. – Подавай списки, служба безопасности отработает. Но Вадим, – он понизил голос, – выбирай тщательно. Проект стратегический. Утечки недопустимы.